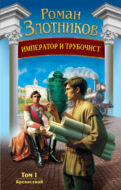Kitobni o'qish: «Император и трубочист. Том 2. Дворянин», sahifa 3
До села Уткинского Данька с караваном не доплыл. Они с управляющим и Ефимом сошли на пристани в Верхней Ослянке, откуда до Нижнего Тагила было всего около семидесяти вёрст вполне наезженной дороги. По ней даже телеги ходили… Но они решили двинуться верхами, ибо так выходило быстрее. В карету же, которая в Ослянке дожидалась возвращения управляющего, загрузили шестерых наиболее толковых выпускников железнодорожного училища, которых Данька на первом этапе решил использовать как инспекторов и свой штаб. Судя по тому, что он увидел на схеме и узнал из рассказов, всю ветку предстояло не просто перестроить, но и ещё предварительно перепроектировать. Впрочем, бывший выпускник железнодорожного техникума надеялся, что с этим удастся справиться относительно быстро. И ещё до зимы что-то сделать с самыми проблемными местами. Потому что на ту дорогу, которая была, запускать паровозы было категорически невозможно. Впрочем, местные и сами об этом догадались – после первой же катастрофы паровозы были убраны с линии и просто ржавели в… м-да, депо это место тоже назвать было нельзя.
В Тагиле его встретил лично сам Николай Никитич Демидов. В весьма сумрачном настроении. Ну дык он же для поездки сюда бросил не только свою любимую Италию, но и обширные имения в Новороссии, в которые собирался активно вкладываться. Потому как рассчитывал, что в случае успеха первой частной заводской железной дороги на паровой тяге его авторитет как заводчика и сторонника промышленного прогресса державы немедленно взлетит на небывалую высоту. А тут такой афронт… Впрочем, вполне возможно, сумрачное настроение представителя легендарной фамилии уральских заводчиков, чья слава продолжала греметь на Урале и в XXI веке, случилось и из-за чего-то более приземлённого, чем мечты о первенстве в области железнодорожного строительства. Например, из-за резко увеличившихся вследствие всех навалившихся проблем убытков. Последняя авария, в которой погибло «осьмнадцать человек мастеровых», направленных из Тагила на Верхнесалдинский завод для запуска новой домны, и потери перевозимого этим же составом оборудования, обошлась в копеечку.
Так что разговор с представителем самой известной промышленной династии Урала вышел нервным и скомканным. Зато его сынишка, примчавшийся в отведённую Даньке комнату едва только до него дошли слухи о том, что приехал «тот самый Даниил Николаев-Уэлсли, который Гатчинску железну дорогу построил» вперился в него обожающим взглядом и весь вечер ходил за бывший майором натуральным хвостиком. И заваливал вопросами. Правда, наполовину на итальянском, которого Данька не знал. А русские слова мальчик вспоминал с большим трудом.
Следующая неделя прошла в делах. Ситуация на дороге оказалась ещё хуже, нежели Даньке представлялось, когда они разбирали ситуацию, сидя в маленькой каюте парохода. Кроме всего того, что удалось вычислить во время того «мозгового штурма», добавилась ещё катастрофическая ситуация с пропиткой шпал, которую либо не делали вовсе, отчего шпалы должны были прийти в негодность всего за год-два, либо просто размазывали пропитку по поверхности шпал кистью из мочалы. Ни о каких автоклавах и речи не шло… Плюс, как выяснилось, гужевые составы шли с почти постоянным перегрузом. Мало того что вопросы загрузки платформ и вагонов никто не контролировал, так ещё и погонщики устроили себе приработок, позволяя местным за денежку малую подгружать на платформы свой товар – доски, брёвна, бочки с воском и дубильными веществами, связки шкурок, коровьи и свиные полутуши и всё такое прочее. Кроме того, что в заводских и рудничных городках и посёлках и у самих рабочих и крестьян из приписанных к заводам деревень непременно имелось и своё хозяйство, так ещё и всякой мелкой торговой шушеры вокруг вилось достаточно – коробейников, мелких оптовиков, скупавших шкурки и всякие поделки от ложек и игрушек и до дранки, пиломатериалов, вязаных рам и рубленых дверей… Но мало того – поскольку упряжки лошадей перегруженные вагоны на спусках и особенно подъёмах не тянули от слова совсем, вместе со своим товаром на платформы усаживались ещё и его владельцы, на крутых подъёмах выступающие в качестве дополнительной тягловой силы. Зато на спусках они с платформ не спрыгивали, предпочитая тормозить всё теми же лагами из брёвнышек – упирая их в землю и шпалы и наваливаясь всем телом… Результатом чего стало коробление рельсов, изготовленных из не очень хорошего железа, и расшатывание крепежа. Причём происходило это, как правило, на наиболее нагруженных спусках. Так что можно было не сомневаться, что если бы не приезд Даниила с выпускниками – новое крушение точно было не за горами. Поэтому пришлось срочно останавливать движение и заниматься ремонтом и перекладкой пути. Что Демидову-старшему очень не понравилось. Но после довольно нервной беседы с Даниилом он нехотя согласился с его аргументами.
Весь август, сентябрь и большую часть октября они переделывали дорогу. Пришлось построить два моста и три эстакады, причём мосты собрали по временной схеме. После того как реки, через которые они были перекинуты, встанут и промёрзнут до дна, планировалось вырубить колодцы во льду, вбить сваи и выстроить каменные либо кирпичные «быки». А на заводах развернулось строительство новых арочных клёпаных пролётов.
В мостостроительстве бывший майор не понимал ничего, но на железнодорожные мосты за время своей жизни насмотрелся. Да и в техникуме они кое-что про мосты когда-то учили. Однако, для того чтобы рассчитать мост, его знаний было совершенно недостаточно. Вот он и мучился ночами, пытаясь изобразить что-то вроде привычного арочного пролёта с ездой понизу. Самое тяжёлое было – рассчитать нагрузку. Он в своё время учил и сопромат, и основы расчётов, но вот совсем ничего из этого не помнил. Плюс характеристики металла, из которого планировалось строить пролёты, – очень заметно плавали. Так что толщину металла балок брали на глазок и с очень большим запасом…
Двадцатого октября паровоз впервые протянул полностью загруженный состав от Нижнего Тагила до Верхней Салды. И это был успех… а на следующий день Демидов с сыном совершили поездку по тому же маршруту на паровозе вместе с Даниилом, разъехавшись со встречным составом на разъезде Покровское.
Поездка со всеми остановками заняла полтора часа, и хотя Николай Никитич провёл её стоя на ногах в будке паровоза, а не на мягких подушках кареты, такая скорость передвижения ему понравилась. Ещё бы – на лошадях поездка в один конец занимала не менее дня…
– Мгм… Даниил, а если присоединить к паровозу какой-нибудь из тех вагонов для пассажиров, которые вы построили к свадьбе великого князя Николая? – поинтересовался он по возвращении обратно в Нижний Тагил.
– Нет никаких проблем, ваша светлость, – пожал плечами Данька. – Но я бы не советовал. Те вагоны – летние, облегчённые, их главным предназначением было создать красивую картинку и обеспечить удобство при поездке в хорошую погоду. Для здешних же мест нужно что-то намного более основательное и желательно с печкой. – Данька сделал короткую пазу и закинул удочку. – Особенно если вы не собираетесь останавливаться на этой ветке и захотите продолжить железнодорожное строительство. – Он сделал короткую пазу и задумчиво произнёс: – Могу спроектировать для вас полноценный штабной вагон со спальней, столовой, которую можно использовать в качестве комнаты для совещаний или гостиной, купе для помощников и туалетной комнатой. В нём можно путешествовать по всем вашим владениям вполне комфортно… если вы, конечно, собираетесь проложить между ними железную дорогу.
Сидевший рядом Толенька, который всё путешествие разрывался между завораживающими чудесами паровозной будки со всеми этими рычагами, штурвалами и задвижками, а также пылающей топкой… и ошеломляющим видом из окна паровоза, иногда разгонявшегося до немыслимой скорости в тридцать пять вёрст в час. Так что когда поезд проходил по бревенчатой эстакаде очень похожей на те, которые бывший майор когда-то видел на старых фотографиях, демонстрируемых им Усманом, воодушевлённо вещающим про американские железные дороги конца XIX века, у мальчика чуть сердце из груди не выскакивало… И аж взвизгнул от восторга и громко закричал:
– Papa! Si! Si-si-si! Я так мечтать об этом!
– Anatoly, comportati bene! – строго одёрнул его Демидов-старший. Но задумался. А когда они уже подъехали к дому Даниила, спросил у него:
– Как вы думаете, если нам удастся построить дорогу до Перми, за сколько времени состав из Нижнего Тагила доберётся до этого города?
Подобные прикидки Данька уже делал – точное расстояние по железной, да и по автомобильной дороге между Пермью и Нижним Тагилом он не помнил, но вряд ли оно больше четырёхсот километров, паровоз «Tsar» требуется заправлять водой и загружать дровами каждые шестьдесят, а с уральским рельефом как бы и не пятьдесят вёрст. То есть на маршруте потребуется иметь минимум девять станций – две отправные и семь промежуточных. Одна заправка/загрузка – это где-то от получаса до часа. Плюс средняя скорость с учётом разгонов и торможений вряд ли составит больше двадцати пяти, а то и двадцати вёрст в час…
– От Тагила до Перми – день, много полтора, – убеждённо произнёс бывший выпускник железнодорожного техникума.
Демидов удивлённо воззрился на него – ну ещё бы, это было немыслимое время! Доставка грузов до Перми с демидовских заводов, расположенных в десятках уральских городков и заводских посёлков – Верхней и Нижней Туре, Кушве, Верхней и Нижней Салде, обоих Тагилах, Невьянске и множестве других, – занимала недели и месяцы и требовала немалых затрат и сотен людей, а тут – максимум полтора дня… Так что в дом Демидов входил о-о-очень задумчивым.
3
– Ы-ыть! – тяжёлая дубина, запущенная мозолистой рукой, вращаясь, летела Даньке в лоб, негромко гудя рассекаемым воздухом.
– ДА-ДАХ! – Данька, пригнулся и отпрыгнул в сторону, на ходу морщась. Выстрел из верхнего ствола, выхваченного из правой кобуры пистоля, прошёл мимо. Но у него ещё остался нижний: – ДА-ДАХ!
Дюжий мужик в рваном армяке, несущийся на него с огромной дубиной наперевес, поймав пулю, вздрогнул всем телом, после чего его ноги подогнулись, и он плашмя грохнулся на землю. Второй же, который и метнул дубину, на мгновение резко притормозил, но затем снова прянул вперёд, размахивая ветхим засапожным ножом с источенным едва ли не до толщины шила лезвием. Но бывший майор быстро сунул разряженный пистолет в правую поясную кобуру и выхватил другой, из левой, одним движением взведя курки и перебросив его в правую, ведущую руку. Он же не в голливудском вестерне – это там палят с двух стволов и все в цель. В жизни же и с одного не всегда попадаешь. Да и патроны у них там, по ходу, бесконечные. А у него на два пистолета всего четыре выстрела…
– ДА-ДАХ! – громко бахнуло над ухом. Бывший майор ошарашенно отпрыгнул в другую сторону и покосился налево. Рослый старшина команды рудничной стражи из числа бывших солдат, которую наказал отправить с ним Демидов ещё до своего отъезда в Санкт-Петербург, привычно бросил приклад нарезной «винтовки» к обрезу сапога и ловким жестом выудил из патронной сумки новый бумажный патрон.
– Аа-а-аа-а… – сквозь клубы белого дыма показалась несущаяся на них фигура следующего нападающего.
– ДА-ДАХ! – Данька разрядил верхний ствол второго пистолета, буквально расплескав массивной удлинённой пулей полудюймового калибра башку нападающего. Бывший солдат, продолжая привычно шурудить шомполом, загоняя в ствол расширительную пулю, одобрительно кивнул.
– Ой ловко, барин, ты со своей пистолей управляешься! Да и энто ружжо винтовальное – тоже доброе! Не в пример обычного штуцера…
– ДА-ДАХ! ДА-ДАХ! ДА-ДАХ! – остальные участники экспедиции наконец опомнились и открыли по нападающим дружный огонь. И, поскольку шестеро из них, из числа выпускников железнодорожного училища, были вооружены точно такими же пистолетами, как и у Даниила, а кроме того, свой огнестрел имелся и у охраны – пальба разразилась знатная. Вследствие чего положение нападавших, на первый взгляд очень ловко выбравших момент нападения и имевших солидное численное превосходство, которое и должно было обеспечить им непременную победу, довольно быстро стало совсем тухлым. Так что спустя несколько мгновений выжившие и получившие не слишком тяжкие ранения налётчики развернулись и припустили обратно в лес.
– ДА-ДАХ! – Данька проводил их последним, оставшимся у него выстрелом, после чего деловито вытащил шомпол из кобуры и занялся перезарядкой. В любом бою при первой же возможности следует перезарядиться. Даже если он вроде как уже закончился… Командир стражников пристально наблюдал за его действиями.
– И где ж, ваша милость, такую пистолю прикупить можно?
– Что, заинтересовала? – усмехнулся Данька.
– Добрая вещь, – степенно кивнул стражник. – И бьёт точно. Хучь на охоту с ней ходи. Хотя… он вскинул Данилову «винтовку», с которой не расставался уже две недели, с того момента как их экспедиция вышла из Нижнего Тагила в сторону Кушвы. – На охоту лучше с энтим. На лося самое то. А случится чего-нито – так и с медведем справится.
Данька хмыкнул, накинул колпачки капсюлей на брандтрубки обоих стволов и сунул правый пистоль в кобуру, параллельно вытаскивая левый. К этому моменту последние оставшиеся в живых и относительно целые нападающие успели взобраться по крутому склону оврага, с которого они и ринулись в атаку, и скрыться в лесу. Так что бой, можно считать, закончился. Потому как преследовать их никто не собирался. Бывший майор окинул взглядом поле скоротечного боя. Да уж… огневую подготовку следует срочно подтянуть. Надо же – всегда считал, что умеет стрелять навскидку, а первым выстрелом позорно промазал!
– Так – осмотреться и посчитаться! – коротко бросил он. – Аграфён, – обернулся он к старшему команды рудничной стражи, – пробегись, посмотри. Может, кто из нападавших живой остался. Поспрошаем – кто это такой борзый? И чем мы ему так не понравились?
– Сделаем, – степенно кивнул тот и, вскинув винтовку на плечо, двинулся вперёд.
До строительства полноценной Уральской горнозаводской железной дороги, которая в том варианте истории, в котором бывший майор прожил свою прошлую жизнь, была построена только в самом конце текущего века, Николай Никитич Демидов дозрел к Рождеству. Хотя «посчитал» Данька ему дорогу по его просьбе ещё ко дню Великой Октябрьской социалистической революции – то есть к седьмому ноября, причём очень близко к, так сказать, «классическому» её варианту. Пусть он совершенно об этом не догадывался… Ну как посчитал – очень прикидочно, конечно. По аналогии с Салдинской. А точно без трассировки трассы и не просчитаешь. Как понять, какой длины мосты и эстакады строить, где и какие выемки делать, какой высоты насыпи? Так что это и не расчёты были, а прикидки. Очень приблизительные. Но по ним уже можно было что-то думать. И Демидов, получив эти расчёты, подошёл к делу серьёзно. Вызвал по зимнику всех управляющих – из Кушвы, Невьянска и остальных городков и заводских да рудничных посёлков, сел с ними, прикинул… после чего пришёл к Даниилу и честно признался, что дорогу он очень хочет, но в одиночку её не потянет. Особенно учитывая, что по уму её следует протянуть минимум до Екатеринбурга, а то и до Челябинска. Иначе она не окупится. Ну а если ещё делать её в соответствии с теми требованиями, которые выкатил Даниил для обеспечения её безопасной эксплуатации – ну, там, выдерживание нужных уклонов, то есть выемки, насыпи, мосты, эстакады, обходчики, – то и вообще… Вследствие чего ему сейчас следует немедленно, зимним трактом, выдвигаться в Санкт-Петербург, где провести переговоры со Строгановыми, Голицыными и Берг-коллегией… то есть этим, как его нынче зовут – Горным департаментом на предмет организации «кумпанства» (он именно так и произнёс, по старинному – «кумпанство», а не «компания»), которое наймёт Даниила для прокладки дороги. Потому что кто его знает – когда ещё получится заманить Даниила сюда, на Урал. А кому ещё можно доверить строительство такой дороги? Ведь понятно же, что именно Данька построил Гатчинскую железную дорогу, что бы там кто ни говорил про англичанина Тревитика. Да и сам Николай Никитич за прошедшее время вполне себе успел убедиться в его компетенции. Сколько проблем было с дорогой до Верхней Салды – катастрофа за катастрофой, а нынче четыре состава в сутки по ней ходят – и всё нормально… Так что нужно пользоваться моментом! Поэтому он почти не сомневается, что «кумпанство» они составят. Плюс его управляющие спишутся с местным купечеством, которое так же должно проявить большой интерес к возможности быстрой доставки товаров как в Центральную Россию, так и из неё. А уж те, кто с англичанами или шведами с голландцами торгует, – так и вовсе… Он же просит Даньку сразу, как появится возможность, начать трассировку маршрута и подготовку строительства. Для чего готов предоставить ему, как это говорят французы, carte blanche. После чего убыл в столицу. Ну а Даниил с воодушевлением принялся за дело.
Первую трассировку сделали ещё по зиме. Данька нанял проводников, взял шестёрку своих выпускников и «пробежался» на лыжах до Кушвы. По первым прикидкам до неё вышло почти пятьдесят вёрст. Причём трасса получилась на удивление простой… Ну не то чтобы совсем, но по сравнению с Салдинской – небо и земля. Там-то пришлось в двух местах городить целые эстакады в духе тех, что строили американцы в XIX веке, здесь же даже мосты через большинство рек можно было бросать в один пролёт.
Самая большая трудность была с людьми – выемки копать и насыпи делать придётся много где, а рабочих рук на Урале не хватает испокон века. Так что Данька начал потихоньку варганить на базе одного из паровозов паровой экскаватор. Он над ним уже давно думал. Да и кое-какой опыт подобного рода у него здесь тоже уже был – ну, когда делали землечерпалку. Хотя там, естественно, изрядно помог Берд. Да и сухопутная конструкция должна была заметно отличаться. Но Данька был практически уверен, что справится. Естественно, должен был получиться жуткий эрзац, но вряд ли кто-то где-то в мире сейчас способен был сделать что-то круче.
Понятно, что провести полную трассировку по глубокому снегу было невозможно – под снегом ведь не видно, какие где грунты, так что вполне может случиться, что там, где намечено сделать выемку, – на глубине штыка лопаты вылезет скала, а на месте, где планируется опора моста, – окажется песчаный плывун. Так что на окончательную трассировку было запланировано выдвинуться где-то в начале мая.
Ну а до того занялись активной подготовкой – пилили по зиме лес на шпалы и временные эстакады, клепали автоклавы, наладили пропитку шпал и бруса для эстакад, прокатку «коробов» для сборки мостовых балок, из которых где-то в марте, ещё до ледохода, должны были начать собирать капитальные мосты на Салдинской дороге. Дело шло туго, но лиха беда начало. Бывший майор, подумав, спроектировал нечто вроде «стандартного» пролёта, который хоть и получился по длине куда меньше привычного ему, зато собирался всего из трёх типоразмеров балок, которые можно было склепать прямо на заводе и доставлять на платформах к месту монтажа. С нынешними технологиями легче было поставить лишнюю опору, нежели добавить пролёту пару дополнительных саженей. Даже учитывая несопоставимые трудозатраты… Поработали и над рельсокатальными станами, изготовив более крупные, тяжёлые и прочные ролики и добавив науглероживание головки рельса угольным порошком. Особенно многого не достигли, но новый вариант рельс вышел заметно тяжелее и крепче старого. Как бы не полноценные Р24 получились… Так что работа кипела. Оттого до мая время пролетело незаметно…
– Убитых нет, пострадавших трое, тяжело – один. Одному рабочему ключицу выбило ударом дубины – лежит стонет, у остальных – синяки да ссадины, – коротко доложил Дормидонт, старший среди шестёрки его выпускников, ставших ему настоящим штабом. Остальных он распределил на завод, мастерские, химический участок и уже построенную дорогу. Движение и меры безопасности они на ней, конечно, наладили, плюс гужевая тяга с коногонами, которые организовали себе «приработок», приведший как минимум к одной катастрофе, так же с дороги ушла, но ухо всё равно надо было держать востро. Местные-то, которые наладили себе такой удобный канал транспортировки, никуда не делись. Так что попытки раскрутить теперь уже паровозные бригады на «порадеть родному человечку» предпринимались с завидной регулярностью… А вот эту шестёрку он всюду таскал за собой. Они били шурфы, описывали керны, помогали ему с трассировкой маршрута, возились с ним над паровым экскаватором, а в начале марта он забрал их с собой на сборку пролёта первого капитального моста, где каждый из них освоил ремесло клепальщика. Данька очень надеялся, что одной дорогой здесь, на Урале, дело не ограничится и после постройки нынешней образуются, как это говорил Демидов «кумпанства», которые захотят тянуть дорогу и дальше – на восток, до Тюмени, а то и до Омска, и на юг – до Уфы и горы Магнитной. Может, не сразу, возможно, даже до конечных указанных пунктов и не при его жизни, но появятся… Наверное, с точки зрения бизнеса для получения максимальных доходов лучше было бы держать монополию, но ну его к чёрту. Ему на жизнь и того, что он там заработает, хватит. А вот то, что в стране железнодорожная сеть начнёт развиваться из ещё одного центра, – это по любым меркам хорошо. Ну и с бизнесом тоже не всё так однозначно. Ведь по-любому паровозы и вагоны его конструкции точно всегда будут на голову выше всего, что тут смогут сделать Демидовы. Ну, когда они наладят их производство… в том, что наладят, у Даниила никакого сомнения не было. Потому что для этого у Демидова было всё – металл, рабочие и мастера достаточной квалификации и, едва ли не самое главное – рынок сбыта. Так что точно наладят – и к бабушке не ходи! Но их качество и эффективность точно будут хуже, чем у него. А значит, они всё равно будут покупать его продукцию. Никак не обойдутся только своими.
– Хорошо, понял, – кивнул бывший майор. – Помощь оказали?
– Оказываем. Ссадины обработали. Трифон и Никодим лубок ладят. Остальные трупы обыскивают.
– Оборудование всё цело?
– Один бур погнули, – слегка помрачнел Дормидонт. – Один тятюк прямо на ящики со склона оврага сиганул, ну и… – он скривился. Данька же хмыкнул и махнул рукой. До Кушвы оставался всего день работы – так что справятся. А потом прям в Кушве на заводе всё и поправим.
– Плотогоны это, – сообщил, вернувшись, старший команды стражников. – У них слух прошёл, что твоя дорога их работы лишит, вот они и сбились в ватажку, чтобы с этой бедой покончить. Три десятка человек набралось. Думали – этого с лихвой хватит. А теперь половина здесь лежит. Да и из тех, кто сбежал, сколько-нито ранетые. Их скоро тоже Антонов огонь пожрёт.
– О как! – удивился Данька. – Плотогоны?! И как это дорога их заденет? Кому придёт в голову дерево по железной дороге в Пермь возить-то?
– Отчего только дерево-то? – удивился стражник. – У нас, считай, половина того, что делаем, на плотах по Чусовой сплавляется. Нормально-то по ней только по большой воде сплавляться можно – а она не более недели держится. Да и то не хватает. Прудами воду поднимают. Сначала на Ревдинском шлюзы открывают, потом Шайтанский, затем Уткинский, Билимбаевский и так далее. В апреле такие караваны барок по Чусовой идут – что твои утки… А вот в остальное время, почитай, токмо плоты.
И тут бывший майор вспомнил песню Митяева:
А как на речке, что за лесом
Промашка вышла, да зазря.
Мы потопили плот с железом,
А на железе – соболя.
И хоть речь в песне шла о более давних временах – Пугачёвском восстании, но, как видно, с тех пор ничего по большому счёту не изменилось.
– Вот оно ка-ак, – задумчиво протянул он. То есть выходит, им с Тревитиком рельсы тоже плотами доставляли… Теперь понятно, почему Демидов так заинтересовался дорогой. Тут речь уже не об удобстве идёт, а как бы не о банальном выживании. Потому что как может выжить крупный промышленный район, имеющий возможность нормально доставлять продукцию своих предприятий к месту реализации всего неделю в году… Впрочем, как-то он в том мире, который ныне остался только в памяти бывшего майора, выжил же? Да не просто выжил, а стал одним из самых развитых промышленных районов не только России, но и мира. Так что не всё так однозначно. Похоже, и на плотах можно вполне себе нормально доставлять к российским городам и портам уральский металл в нужном объёме… Но железной дорогой однозначно лучше!
– То есть они так боятся, что у них работы не будет?
– Так плотогоны – это ж самая пьянь и рвань, – пояснил бывший солдат. – У них же нет ничего – ни своей барки, хучь бы и на паях, ни работы нормальной. Плот до Перми доведут, а потом пешком вдоль Чусовой обратно топают. Редко у кого получается в бурлацкую ватагу на обратную дорогу пристроиться. Вниз-то груза куда более идёт, нежели вверх… И так раза три-четыре за лето. И деньгу зарабатывают токмо-токмо зиму пережить… Так что им ежели хоть на рейс меньше за лето будет – так ложись да и помирай! Тут, чай, Урал, а не Россия – «кусочничать» не пойдёшь…
Данька вздохнул. Да уж – ситуация. Вот вроде доброе дело затеял, железные дороги строить, промышленность в стране поднимать… а тут выясняется, что, если у него всё удастся, целая толпа народа с голоду помрёт! И ведь на железную дорогу таких не устроишь. Ему грамотные нужны, обученные, иначе такое начнётся – проблемы на Салдинской дороге цветочками покажутся. Нежными.
– Надоть капитану-исправнику доложить, – боязливо пробормотал старший среди разнорабочих, – эвон сколько православных жизни лишили.
– То не православные, а самые что ни на есть тати, – хмуро произнёс старший стражник. – И докладывать надобно не в Кушве, а послать гонца в Тагил.
– Это почему это? – удивился бывший майор. До Кушвы им оставалось дай бог три версты – максимум ещё сутки работы, а до Нижнего Тагила – больше сорока.
– Так мы – Демидовские, а в Кушве хозяева – казённый Гороблагодатский округ. Им нам какую подляну устроить – за счастье будет, – зло пробурчал бывший солдат. Даниил удивлённо покачал головой.
– И как мы тогда дорогу строить будем?
– Ежели Николай Никитич с Горным департаментом все вопросы порешает – нормально будем, – вздохнул стражник, – а нет – так и не будем.
Данька нервно облизал губы. Вот ведь блин… он ещё со времен до попадания считал, что Демидовы на Урале – главные хозяева, а оно вон как получается… Впрочем, шанс на то, что Николай Никитич сумеет решить все вопросы, был неплохой. Бывший майор с ним ещё и письмо Николаю передал с просьбой посодействовать. И к весне уже от него ответ пришёл, в котором великий князь сообщал, что вроде как дело продвигается неплохо. Вследствие чего его царственный брат даже разрешил им с Михаилом войти в образуемую компанию представителями от августейшего семейства. И как с такой поддержкой можно не договориться с Горным департаментом?
Гонца в Тагил с описанием случившегося решили отправить немедленно. А вот в Кушву – поутру. А вечером к нему подсел страж.
– Барин, а нам непременно надобно до самой Кушвы идти?
– Ну, как бы – да. Надобно все грунты проверить, шурфы пробить, да и трассировку закончить надо, – оптического нивелира у него, конечно, не было, но примитивный с обычным диоптром он себе изготовил, ещё когда трассировал Гатчинскую дорогу. А на Урал он взял таковых пять штук. И три были при нём. – А что?
– Да вот думаю, что плотогоны не сами напали. Натравил их кто-то… подпоил, накрутил, голову задурил – вот они и налетели. Точно ведь не готовились. У них же и оружия толком никакого не было – с дубьём да ножами побежали.
– Похоже, так… – задумчиво произнёс бывший майор.
– Так вот я думаю, что тот, кто их так накрутил, – это в Кушве сделал. Недаром они так близко от неё напали. Так что вполне может быть, что он там и живёт. И человек он там точно не последний… Так вот я думаю – зачем ему, чтобы даже хотя бы формальное расследование кто-то проводил.
– Оба-на! А как?
Стражник пожал плечами:
– Ну так парма вокруг. Места, может, и не совсем глухие, а всё ж… Была кспедиция – и нет. То ли отравились чем, то ли медведь-шатун вышел, то ли волчья стая мимо не прошла. Кто узнает?
– Ага, медведь на полторы дюжины людей с огнестрелом, которые вот только половину разбойничьей ватаги в три десятка нападавших положили? И как с тем докладом быть, что мы уже в Тагил отправили?
– Ну он-то про это не знает, – пожал плечами стражник. – Но решать вам. А я на эту ночь двойную стражу поставлю.
Однако ночь вопреки опасениям стражника прошла спокойно. И следующий день тоже. А когда они добрались до Кушвы, выяснилось, что управляющему Гороблагодатским округом как раз вчера пришло письмо из Горного департамента с требованием «оказать Управляющему строительством Уральской горнозаводской железной дороги их благородию господину Николаеву-Уэлсли всю и всяческую помощь». Так что к заявлению о разбойном нападении отнеслись со всей серьёзностью. На место нападения был послан капитан-исправник, а кроме того, был произведён по кабакам розыск людей с огнестрельными ранениями… Впрочем, разыскные мероприятия, как обычно, ничего не дали. Схватить сумели всего пару человек, которые валялись при смерти, после чего они так и отошли, ничего никому не рассказав…
Окончательный маршрут дороги Даниил утвердил к концу мая. Когда закончили изучение всех кернов. По сравнению с зимними замерами трассу пришлось подправлять только в двух местах. В одном они по зимнему времени наметили трассу через угол замёрзшего болота, так что пришлось делать небольшой обход, а в другом не имелось никакой возможности сделать выемку – сплошная скала… а выемка для спрямления уклона там была совершенно необходима. И бывший майор очередной раз сильно пожалел, что у него, кроме чёрного пороха, никакой приличной взрывчатки не имеется. Хотя бы динамита, про аммонит с аммоналом и говорить нечего. Особенно про последний. Потому как алюминий сейчас был просто неизвестен…
Дорогу начали строить сразу с двух сторон. Причём со стороны Нижнего Тагила он сразу вывел сляпанный, считай на коленке, прототип парового экскаватора. Или, как это называли заводские мастера, помогавшие ему в работе, – «паровую лопату». Ну Данька и не спорил – лопата так лопата… Несмотря на то что на паровозы местный люд за зиму вроде как уже насмотрелся, посмотреть на экскаватор выбежало как бы ни полгорода. Паровоз в получившейся конструкции угадывался слабо. И дело было не только в установленной впереди дополнительно к будке кабине… то есть, если уж быть точным, открытому всем ветрам посту управления, защитой которому служил только небольшой деревянный навес – сама конструкция, включающая в себя установленную на поворотном кругу стрелу с рукоятью и ковшом, была собрана над паровозным котлом. А топочная труба была выведена вбок. Причём она была сделана шарнирной, вследствие чего её можно было по необходимости перебрасывать влево или вправо. В зависимости от того, с какой стороны шла работа. Плюс экскаватор не имел тендера. Потому что Даниил предусмотрел возможность выгрузки грунта на подогнанную сзади платформу, а тендер этому мешал… но бывший выпускник железнодорожного техникума посчитал, что проще будет добавить к экипажу экскаватора бригаду лесорубов, и они, не отходя, так сказать, от кассы, обеспечат его топливом прямо на месте работы. Воду же можно доставлять в баках на тех же платформах для отвоза грунта. Ну или тоже добывать на месте, если это место будет поблизости от какой-нибудь речки или ручья.