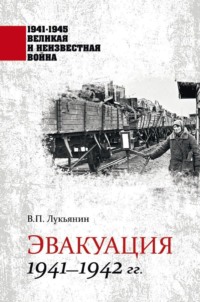Kitobni o'qish: «Эвакуация. 1941—1942 гг.»
1941–1945. Великая и неизвестная война

© Лукьянин В.П., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
«Бегство», которое привело к победе
Об эвакуации и сегодня говорят часто в разных контекстах: эвакуируют обитателей подтопленных паводком селений, эвакуируют жильцов охваченного пожаром дома, эвакуируют работников и посетителей якобы (хорошо, если «якобы»!) заминированного торгового центра, эвакуируют, в конце концов, припаркованный в неположенном месте автомобиль. Но если слово «эвакуация» упомянуть вне контекста, то подавляющая часть жителей нашей страны на уровне подсознания свяжет его с событиями начала Великой Отечественной войны.
В энциклопедическом словаре, выпущенном еще в советское время к сорокалетию Победы, эвакуация деловито определяется как «перебазирование осн[овных] производит[ельных] сил из прифронтовых и угрожаемых р[айо] нов на Восток», которое «явилось важнейшим звеном перестройки нар[одного] х[озяйст]ва на воен[ый] лад»1. А в народной памяти, хоть сменилось уже три или даже четыре поколения, по сей день сохраняются картины всенародного бегства, и неважно – просто ради спасения жизни или вместе с оборудованием разоренного предприятия: бесконечные потоки измученных людей, бредущих с заплечными мешками или ручными тележками по раскисшим осенним дорогам, медлительные эшелоны с громоздкими металлическими монстрами на платформах, а между платформами – продуваемые насквозь теплушки с мамами-папами, детьми и скудным домашним скарбом, который удалось (или позволено было) с собой увезти. А над головами беженцев – стервятники-мессершмитты, сеющие разрушение и смерть.
Нет смысла противопоставлять одно другому: было и то, и то. А проще сказать, было народное бедствие, сопоставимое по масштабу с катастрофой первого дня войны. Ибо, как утверждается в разных источниках, около 17 миллионов человек2 – десятая часть тогдашнего населения нашей страны, – были увезены из обжитых мест в регионы, отдаленные от театра военных действий на сотни и тысячи километров, однако там ведь не было элементарных условий для размещения такого наплыва беженцев, так что и для коренных обитателей далекого тыла (их-то было в разы больше) эвакуация обернулась тяжким испытанием. Прямо или косвенно страдания, связанные с эвакуацией, коснулись практически всего населения СССР, вот почему память о ней, как и память о фронтовых событиях, до сих пор жива в каждой семье, в каждом роду.
И народное хозяйство вследствие эвакуации претерпело такое же потрясение: тысячи предприятий из районов, где ожидалось вражеское нашествие, были демонтированы и по частям вывезены в удаленные от фронта края. Это сейчас мы знаем, что прибывшую с эвакоэшелонами технику в тылу реанимировали для работы на оборону, а вы представьте себе, как складывалась ситуация в то время. Вот какую картину нарисовал Н.А. Вознесенский, председатель Госплана во время Великой Отечественной войны: «В результате военных потерь, а также эвакуации сотен предприятий валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь уменьшилась в 2,1 раза. В ноябре и декабре 1941 года народное хозяйство СССР не получило ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов. Выпуск проката черных металлов – основы военной промышленности – в декабре 1941 года уменьшился против июня 1941 года в 3,1 раза, производство проката цветных металлов, без которого невозможно военное производство, за тот же период сократилось в 430 раз; производство шарикоподшипников, без которых нельзя выпускать ни самолетов, ни танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз»3.
Вот и попробуйте с тем, что осталось в распоряжении воюющей страны, производить оружие, налаживать оборону!
Конечно, что-то пострадало от бомбежек, артобстрела – но больше все-таки от того, что до последнего момента напряженно работавшие на оборону предприятия под напором обстоятельств были разорены и фактически уничтожены самими их хозяевами: что могли – демонтировали и вывезли, а что вывезти было невозможно (например, шахты, плотины) или не успевали – привели в негодность или уничтожили, чтоб не досталось врагу. А ведь это все потери только на начальной стадии эвакуации, на момент отъезда на восток страны.
Между тем увезли – это еще не значит сохранили: что-то погибло в ходе транспортировки (эшелоны же бомбили!), что-то потерялось в пути (что вполне объяснимо при тогдашней перегруженности всех транспортных артерий и неизбежной в такой ситуации неразберихе), чему-то не нашли применения на месте. Однако и то, что попало по назначению, «имплантировалось» в производственную среду, которая до того существовала в тыловых регионах, порой не менее болезненно, нежели чужеродные органы в живой организм.
Не надо быть провидцем, чтобы знать наперед, что из всего этого получится. К тому же в российском прошлом уже была попытка эвакуации предприятий вместе с квалифицированными рабочими и сырьем во время Первой мировой войны, и она окончилась очевидной неудачей. Историк А.Л. Сидоров, изучавший этот опыт, пришел к выводу: «Эвакуация в ряде случаев свелась только к собиранию всякого рода сведений и к составлению планов эвакуации и лишь в малой мере вылилась в вывоз промышленного оборудования, сырья и рабочей силы»4. Более характерным для того времени было бегство из «угрожаемых районов» (было в ходу такое выражение) в относительно безопасные места обывателей, обремененных лишь бытовыми пожитками, но и его масштабы несравнимы с тем, что происходило в 1941 году. «Согласно отчетам, – пишет авторитетный екатеринбургский архивист, – на начало 1917 года в Екатеринбургском уезде находилось 4472 беженца»5. Между тем счет эвакуированных на Средний Урал в 1941 году шел на сотни тысяч (цифры называются разные, но нам к этому вопросу еще предстоит вернуться).
Так что рассматривать всерьез возможность эвакуации применительно к крупным предприятиям, имеющим многотысячные коллективы, никому прежде и в голову не приходило. Не было такой практики в мировой истории войн!
Тем более немцы не ожидали подобной новации от народа, к которому относились с расистским высокомерием. Поэтому, я думаю, ни разведка противника, ни гитлеровские стратеги не усматривали чего-то опасного для рейха в томительно медленном движении эвакоэшелонов из прифронтовой зоны в глубь советской территории: в восприятии гитлеровцев это было продолжение разрушения «колосса на глиняных ногах», начатое блиц-операцией вермахта в ночь на 22 июня 1941 года. Уверенность в том, что результат первого удара будет именно таким, была главной предпосылкой «плана Барбаросса», так что все у них шло по плану. Продолжением плана было и то обстоятельство, что гитлеровские стервятники любили «попугать» беженцев внезапными атаками с воздуха, после которых на израненной земле оставались груды искореженной техники и окровавленные трупы: своими разбойными налетами захватчики вовсе не собирались остановить эпический исход уже побежденной, как им казалось, страны, а хотели только подчеркнуть свое полное военное превосходство и предупредить саму возможность появления у «недочеловеков» мысли о сопротивлении.
Однако недальновидные завоеватели поплатились за свою самоуверенность. Первые танки, не припасенные в тыловых ангарах, а сделанные уже на Урале с использованием эвакуированной техники, вступили в бой с захватчиками еще на подступах к Москве; защищенные уральской броней красноармейские дивизии продолжили громить врага под Сталинградом и Курском; тыловые заводы, преобразованные на основе эвакуации, создали вооружение, которым и была повержена гитлеровская Германия. «Бегство» советской промышленности от военной опасности было превращено организаторами нашей обороны в беспрецедентный способ накопления и приумножения сил, что и позволило совершить коренной перелом в ходе войны и, в конечном счете, добиться Победы.
Думаю, этот парадоксальный поворот событий имел в виду Н.А. Вознесенский, один из стратегов эвакуации и ее первый исследователь, утверждая, что «Советское государство в период Отечественной войны получило слаженное и быстро растущее военное хозяйство»6. Такая оценка небывалого в мировой истории войн маневра прочно утвердилась в советской историографии. Ее поддержал и маршал Г.К. Жуков в своих мемуарах: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны, проведенная в связи с этим колоссальная организаторская работа партии по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равны величайшим битвам второй мировой войны»7.
Однако советская историография, признавая эвакуацию «одной из ярчайших страниц истории Великой Отечественной войны»8, глубокого погружения в эту тему избегала – надо полагать, из-за того, что эта страница не очень выигрышно смотрелась в галерее «славных побед». Содержательные (отдадим должное) главы об эвакуации включались, как правило, в работы панорамного плана (что-нибудь вроде «Уральский тыл во время войны», «Советская экономика в период войны» и т. п.); в таком контексте они выгодно подчеркивали глубину пропасти, из которой пришлось выбираться стране под мудрым руководством… Сталина? Партии? Это уже детали, ибо по-настоящему сложная проблема для историков, работавших в условиях идеологической цензуры, заключалась в том, что надо же было как-то объяснить читателям, под чьим руководством и почему страна свалилась в ту гибельную пропасть. «Вероломство противника», «внезапное нападение» – такими «флажками» была отмечена черта, переступать которую им возбранялось. Специальной директивы не было, но механизмы идеологической защиты работали безотказно, крамольным мыслям ходу не дали бы точно.
А постсоветские (нередко почему-то мстительно-антисоветские) историки перво-наперво отвергли прежнее табу: изобличить «мудрое руководство» (хоть Сталина, хоть партии) стало их навязчивой идеей. Одним из редких отступлений от этой тенденции стала цитированная выше глава «Эвакуация как составная часть перестройки экономики в военное время» в 7‑м томе 12‑томника «Великая Отечественная война»: спрессованный в ней обширный массив фактов не встроен в матрицу старой или новой парадигмы. Правда, этой добросовестной работе компетентных историков, на мой взгляд, недостает концептуальной целостности.
Так или иначе, бросается в глаза, что количество книг и прочих публикаций, посвященных катастрофе первого дня войны, в нашей нынешней исторической литературе, пожалуй, сопоставимо с объемом всего, что написано об остальных 1418 днях, включая и победное 9 мая, вместе взятых, а вопрос о том, по какой причине ход войны повернулся от катастрофы к победе, вообще не обсуждается.
«Но победа все-таки была?» – спросите вы. Ответы услышите разные. Кто-то польстит вашему национальному самомнению: дескать, русские долго запрягают, да быстро едут. Другие попугают откровениями о штрафбатах, заградотрядах, «заложниках» фронтовиков – семьях, оставшихся в тылу. Или порассуждают о победительном ленд-лизе. А то и вовсе представят победу как поражение. По крайней мере, как победу «режима» и «поражение» народа.
Общим же для всех этих вариантов, изобретенных «свободной мыслью», остается убеждение, что бездарное «большевистское» руководство, ответственное за катастрофу 22 июня, в принципе неспособно было предпринять что-то разумное для спасения страны. «Слаженное хозяйство» во время войны – «заведомая ложь»: как оно станет слаженным, если даже в мирные предвоенные пятилетки развивалось бессистемно, импульсивно, по принципу «давай-давай»? И спасительная роль эвакуации – «очередной советский миф», ибо на самом деле та эвакуация была – хаос, неразбериха, некомпетентность, усугубление неоправданных потерь.
Можно было бы не придавать значения попыткам «либерального» переосмысления советской истории, но с фактами надо считаться, а факты таковы, что хаоса и неразберихи в ходе эвакуации на самом деле было через край. Об этом мне (думаю, и вам тоже) случалось не только читать, но и слышать и от самих бывших «беженцев» (увы, немногие из них дожили до наших дней); немало драматических рассказов на эту тему сохранилось и в семейных преданиях. А дотошные историки и в докладе Госплана СССР от 10 декабря 1941 года обнаружили признание, что «эвакуация происходила в условиях дезорганизации и хаоса», и в материалах госбезопасности СССР нашли тому подтверждение9.
Но если хаос эвакуации на самом деле был таким беспросветным – откуда и каким образом появились на Урале, в Сибири и в других восточных регионах страны новые центры танковой, авиационной и вообще – оборонной промышленности? А что они появились – такой же неоспоримый факт, как и сама Победа, которая без них была бы невозможна. Без объяснения этого факта и Победа необъяснима.
«А зачем ее объяснять, – возразите вы. – Разве недостаточно просто знать, что она свершилась?» Нет, недостаточно. Я отдаю себе отчет в том, что нынче память о войне (значит, и о Победе) нередко – предмет спекуляций. Но предмет не становится менее или более нужным оттого, что им спекулируют. Если кто-то пытается манипулировать моим сознанием в своих корыстных интересах – как я могу ему запретить? Но от меня самого зависит, распознаю ли я, что мною манипулируют, и сумею ли не поддаться замаскированному лукавству. Этой коллизии не избежать, погружаясь в изучение исторических событий, и я не обещаю вам «окончательной» правды, потому что историческая правда «окончательной» не может быть, пока история не завершилась. Но я, по крайней мере, не хочу, чтоб вы думали, как я; мне гораздо важнее, чтоб вы думали вместе со мной, и мне бы хотелось, чтобы читатель это понял «на берегу».
Историческая память – активный инструмент жизнестроения. Помнить и думать о войне нужно не только из уважения к своему деду (или роду), но и чтобы лучше понять самого себя, осознанно выстроить свое отношение к сегодняшнему дню и взять на себя ответственность за свое будущее.
Для меня ключевой вопрос, когда мысленно возвращаюсь в легендарную эпоху: почему тогда мы, общество наше, смогли победить «непобедимого» врага, а сегодня нам только и остается гордиться могуществом государства, которого уже нет и память о котором дискредитирована, а в своей безрадостной коллективной судьбе бессильны что-либо изменить? Задаться этим вопросом для наследников Победы – движение души, на мой взгляд, более значимое, нежели «воздать должное» и «помнить всех поименно», то есть возложить цветы или пройти по улице с портретом деда.
Так почему же тогда – смогли?
Попытки нынешних «правдолюбов» ответить на этот неизбежный вопрос удручают своей умозрительностью. Но если в необозримой панораме Великой Отечественной войны выделить ключевое событие, каковым можно и должно считать эвакуацию, – ситуация обретает осязаемую предметность и конкретность. Катастрофическая потеря ресурсной и производственной базы в результате оккупации противником самых населенных и промышленно развитых территорий западной части СССР даже нагляднее, нежели цифры потерь 22 июня 1941 года, отражает безысходность катастрофы первого дня. Но стране удалось в короткий срок восстановить свою обороноспособность и накопить силы и средства для полного и окончательного разгрома врага – вот где секрет Победы! Это возрождение могло бы показаться чудом, если б чудо не было столь очевидно рукотворным. Дело не сводится к эвакуации (и я о том еще скажу), но эвакуация в совокупности с другими мерами – фактор наиболее зримый, хорошо документированный, поддающийся количественным измерениям; ему и посвящена эта книга.
Заявленная тема, конечно, чрезмерно широка, чтобы претендовать на ее всестороннее раскрытие. Предупреждая разочарование читателя, который, возможно, не найдет в этой книге ответа на какой-то особенно волнующий его вопрос, я должен сразу ограничить проблемное поле, за пределы которого без особой надобности выходить не буду. Прежде всего, я предполагаю сосредоточить внимание, главным образом, на эвакуации промышленных предприятий и научных учреждений, потому что тема эвакуации культурного наследия, сколь она ни важна – все-таки другая тема. Но при этом нельзя не учитывать, что эвакуация как операция по возрождению обороноспособности страны была бы невозможна, если бы проводилась вне связи с великим перемещением народных масс на восток: она тут же была бы разгадана и пресечена противником, превосходившим тогда нашу страну по военной мощи. В том-то и секрет, что реальностью для всех была вынужденная обстоятельствами эвакуация-спасение, эвакуация-бегство, а что в этом широком потоке пряталась и передислокация военно-производственных сил, в то время мало кто догадывался. Это была одна из главных причин просчета гитлеровских стратегов: они просто «прозевали» процесс создания гибельного для них стального кулака! Опять-таки, если понимать, что передислокация оборонной промышленности совершалась в едином потоке с бегством от огня и железа накатывающегося фронта, то более органично соединятся в общей картине, с одной стороны, дезорганизация и хаос, запечатленные в народной памяти и документах, и, с другой стороны, «слаженное и быстро растущее военное хозяйство», о котором говорил Н.А. Вознесенский. Так что тема эвакуации-бегства в этой книге будет затронута, но не выйдет на передний план.
Следует еще, очевидно, сразу оговориться, что масштаб эвакуации 1941–1942 годов всесоюзный, но автор не стремился показать в сколько-нибудь представительной полноте географию эвакуации. Да, читатель предметно увидит, что путь в эвакуацию начинался из самых разных областей и республик западной части страны; что касается завершения этого пути в разных точках необъятных восточных территорий – об этом в книге говорится менее подробно; внимание автора сосредоточено, главным образом, на событиях, происходивших на Урале. Конечно, это объясняется тем, что автор живет и работает на Урале: здесь заводы, которые я знаю не понаслышке, здесь архивы, в которые я мог ездить на трамвае или ходить пешком, здесь давно и хорошо знакомые люди – участники описываемых событий, которые поделились воспоминаниями. Но, честно говоря, я не вижу особого порока в таком самоограничении. Во-первых, Урал – одно из главных направлений эвакуации; именно тут происходили наиболее показательные и значимые события этой планетарной по размаху операции. Во-вторых, повсюду действовали одни и те же механизмы эвакуации, проявлялись одни и те же закономерности: наращивание фактического материала не давало бы существенного приращения темы, но создавало бы дополнительные трудности для читателя и без того непростой для освоения книги.
И еще одна важная предварительная оговорка: предлагаемая книга написана не историком, а публицистом.
Резкой границы между двумя этими ипостасями не вижу. Многие факты и я добывал, подобно историкам, в архивах и научных изданиях. Но историки тоже, как и я, обращаются при случае к мемуарам, краеведческим публикациям, не пренебрегают вообще никакими источниками, из которых можно извлечь полезную информацию по теме. При этом историческая наука тесно граничит с публицистикой: ведь и для ученых-историков, в конечном счете, важно не только то, «как оно было на самом деле», но и «что из этого следует». «Historia est magistra vitae» – формула древняя, но ее и сегодня почитают своим девизом даже те представители профессии, кто подчеркивает свою приверженность «фактам и только фактам» и избегает «философии».
Тем не менее, я считаю необходимым публицистическую природу своей книги подчеркнуть. Разница – в понимании целей и средств. Я, как вы увидите, перейдя к следующим страницам, не стремился встроить свое сочинение в «научную парадигму», мне важнее было найти живой отклик у так называемого широкого читателя. Широкого не в количественном (при нынешних-то тиражах!), а в качественном плане. Такого, который не следит за дискуссиями в специальных исторических изданиях, но обладает некоторой эрудицией, здравым смыслом и желанием «самому разобраться». Ему, я думаю, не так уж важно, ввожу ли я «в научный оборот» новые факты или выстраиваю в новом порядке то, что известно всем, – важнее, интересно ли ему обсуждать загадки истории вместе со мной. (Вот почему я не слишком забочусь об исправности «научного аппарата», хотя, когда случается привести факт «не расхожий», ссылку на источник обычно делаю.) Не избегаю и аллюзий с современностью, если таковые по ходу рассуждения напрашиваются, ибо самый смысл обращения сегодняшнего человека к истории заключается в том, чтобы лучше понять себя в отношении нынешнего дня.
При этом рассчитываю не на единомышленника (с которым, как некогда остроумно заметил Ю.М. Лотман, говорить проще, но не о чем), а заинтересованного оппонента, ибо в споре рождается истина.