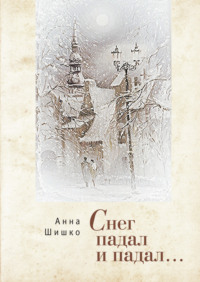Kitobni o'qish: «Снег падал и падал…»
В оформлении обложки использована картина художника А. Никогосова.
Рисунки Анны и Василисы Шишко.
Автор выражает особую благодарность Наталье Киселевой, Галине Турчиной, Алисе Дмитриевой, Нинели Журбе, Елене Русаковой, Оксане Андросовой, Людмиле Никитиной, Ольге и Василисе Шишко, Ольге Акакиевой, Дарье Куприяновой.

© А. А. Шишко, 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015
Дневник памяти
1956–1955 годы
Память, как прожектор, выхватывает из уже отбытого, отжитого те удивительные искры, те, порой не самые значительные моменты жизни и маленькой, и взрослой, когда ты не понимаешь, не оцениваешь так давно прошедшее, а лишь ощущаешь его где-то рядом со своим сердцем, слышишь этот голос и бережёшь это видение как дорогое, ни с чем не сравнимое вечное притяжение близких.
Суровая снежная зима 1955 или 1956 года. Мы идём гуськом: мама в котиковой чёрной шубке, в шляпке-шапочке, папа в тяжёлом драповом пальто с каракулевым серым воротником. Я уже взрослая, а, может, и маленькая, в пальто на ватине, тоже с меховым черным воротничком, в вязаной красной шапочке. У меня резиновые сапожки с меховыми отворотами, тёплые носки внутри. Ногам холодно, но ботиночки надеть отказалась. С нами моя любимая бабушка Нюра в роскошном габардиновом пальто, в шапке-казачке и опять каракуль в основе всех нововведений (это пальто бабушке очень долго шили в ателье, а я с ней часто ходила на примерки).
Станция Кучино. Тут живёт бабушкина сестра Шура, и мы приехали к ней праздновать Рождество. Снег падает хлопьями на наши лица, руки, одежду. Шапки постепенно превращаются в белые колпаки и, кажется, что все мы смешные клоуны, затерявшиеся в лабиринтах времени. А вот и длинный дом, его называют бараком. Тусклая лампочка под потолком, справа и слева – комнаты. У одной из дверей галошница и много пар валенок, ботинок со шнурками.
– Ну вот, уже все прибыли, а мы опаздываем, – говорит бабушка Нюра и при этом улыбается. Она никогда не сердится, у неё большие пухлые губы, изпод шапки выбивается прядь каштановых волос. Папа стучит в дверь.
– Лёшенька, Люся, две Нюрочки – входите, входите! – радостно встречает нас симпатичная, хотя и с большим, как у Буратино, носом тётя Шура – старшая бабушкина сестра. Она очень маленького роста, но шустрая и такая тёплая. Я дотрагиваюсь до неё и радуюсь, что мы пришли.
Крохотное помещение перед входом в комнату. Мы снимаем пальто, сапожки, надеваем туфельки. Дверь открыта. За столом многочисленные бабушкины сёстры и братья: тётя Жанночка с мужем, братом бабушки; это дядя Вася (я уже знаю, что он прошёл три войны, но какие, пока не понимаю); дядя Паша, тётя Настя, его жена; тётя Люба (она приехала из Реутова); Тамара, тёти-Шурина дочка, и её муж, Вовка; мой троюродный то ли брат, то ли дядя. Вовка – озорной и очень глазастый. Мне он нравится, хотя учится на двойки, а я отличница.
На столе – блюдо с гречневой кашей. На гречке, словно живой, поросёнок с торчащими ушками. Дядя Вася отрезает кусочки от целого туловища поросёнка. На одной руке у него нет пальца. На войне оторвало. Я есть мясо отказываюсь. Дядя Вася усмехается.
– Путяша, помоги Василию разделать тушку, – просит тётя Настя.
Вдруг откуда-то из-под стола вылезает Серёжка, сын тети Насти и дяди Паши, кудрявый, смешливый и очень добрый.
– А где Ирка? – спрашивает он у меня.
Я молчу, не знаю, что ответить. У бабушки Шуры мы впервые. В углу комнаты кровать, маленький стеклянный шкафчик, а в нём удивительной красоты статуэтки: дама в длинном красном платье кружится в танце с кавалером, огромная бело-серая фарфоровая собака, девочка с цветами… Эти статуэтки дочка тёти Шуры Тамара привезла из Германии, где они с мужем Гришей проходили военную службу. Тётя Тамара была храбрым бойцом, воевала на разных фронтах. Вернулась с маленьким Вовкой. Я так Гриша Вовку считал своим сыном.
У меня на тарелке оказывается пирог с капустой. Все едят, пьют вино, но понемногу.
– А где же Муся? – спрашивает моя мама. И тут, словно отвечая на мамин вопрос, в дверь просовывается маленькая толстушка Муся с мужем Алексеем – он же мой крестный, и Аришка в красивом сером платьице с белым воротничком. У нее косы пепельного цвета и небесно-синие глаза. Их усаживают за стол. В разгар трапезы нам, младшим, разрешают погулять перед домом. Мы хохочем, одеваемся, выкатываемся гурьбой на улицу, играем в снежки, лепим снеговика. Вовка приносит из дома морковь и ведро – атрибуты для снежного человека. Мы с Аришкой пытаемся повалить в сугроб Вовку, но он изворачивается и вдруг замирает как вкопанный. К нам приближается Лидуха (так он её кличет), и Вовка перестаёт нас замечать, а как-то странно и восторженно смотрит на Лиду, у которой из-под чёрной ушанки выбиваются рыжие волосы. Через много лет они поженятся. Лида станет геологом, уедет работать в Африку, вернётся, пристрастится к горячительному, а пока (я уже читала в романах) – это любовь.
Большая семья… Они были лишенцами. Всем им моя бабуля помогла восстановиться в гражданских правах, и постепенно братья, сестры и их мама Мария Васильевна переехали в Москву и Подмосковье, выучились и дружили.
PS. Прошли годы, и многое из того, что я видела, что чувствовала, что узнала при встречах с родными и близкими, с яркими, талантливыми личностями, повлияло на содержание и органично переплелось с некоторыми сюжетами моих рассказов.

Люба и Сеня
Такая большая комната… Окна смотрели на сад и видели цветущую сирень, бело-розовые лепестки яблонь; потом на них ложились капли дождя, но когда где-то далеко-далеко появлялось солнце, эти окна подставляли ему свои запотевшие стекла, и оно ласкало их, превращая в зеркальные отражения – в волшебные неповторимые картины, которые так любили рассматривать Люба и Сеня.
Люба садилась у левого окна. За спиной была дверь, и она усаживалась именно здесь, не позволяя Сене занимать это место, чтобы, когда дверь открывалась, сквозящий ветер не мог продуть его спину и слабые Сенины лёгкие. Люба берегла его, берегла каждую секунду и каждый день уже более десяти лет. Сеня размещался у правого окна, рядом со старинным ломберным столиком, доставшимся Любе от матушки, купчихи первой гильдии. У столика были изогнутые ножки с вырезанными на углах львиными мордами. Сеня присаживался, держась за крышку стола, а Люба говорила:
– Ну, опять навалился! Старинный он, реликвия моя… Ты – деревенский, пустоголовый…
Сеня застенчиво улыбался и тихо отвечал Любе:
– Эх, ты, Любка, мы и сами с тобой реликвии, только беречь-то нас некому, – он кряхтел, придвигал стул к подоконнику, доставал из бокового кармана клетчатой рубашки «Приму», коробок со спичками, закуривал. Колечки дыма застилали стекло окна. Сеня собирал дым в кулак и замолкал.
Ему вспоминался мамин дом в псковской деревне. Леса, леса да речка узкая, и вода в ней была холодная. Но он любил встать на камешки, забросить подальше удочку и дожидаться, когда какая-нибудь плотвичка клюнет. Как-то на крючок попалась щука, килограмма на два. От неожиданности Сеня неловко плюхнулся носом в воду, но рыбину удержал. Стал подниматься на колени и услышал смех – громкий, раскатистый. Поднялся, обернулся. С пригорка к нему сбегала Марья, протянула руку, помогла встать. Сеня бросил улов в сетку, вдруг сердце заколотилось, руки сделались ещё холоднее, то ли от воды, то ли от страха. Что-то томительное, сладостное разлилось по всему телу. Неуклюже поцеловал Марью в щёку. А она легонько шлёпнула его по лицу. Но то была не пощёчина, а скорее такое же стыдливое прикосновение: за лаской рука потянулась.
Встречались месяц. Было им по семнадцать лет. Потом он – матери, а Марья – своим родителям, – сказали, что решили пожениться. Запрягли лошадь, поехали через лес в деревню Покровка, что насчитывала сорок домов, где были магазин и загс. Их расписали. Собралось на свадьбу человек пятнадцать парней и девчат. Пели, плясали, пили самогонку. Сеня не пил: знал, что близится сладкая-сладкая ночь.
Жить решили у Сениной матери. Мать пошла спать в сенцы на сундучок. А они легли в горнице. Луна заглядывала в окно, освещая прекрасное девьчье тело. «Маша! Машенька! За что же мне такое счастье?»
Марья прижалась к Сене и заплакала. Она отдалась стыдливо и, в то же время, трепетно. И чем сильнее боль пронизывала Марью, тем сильнее прижималась она к юному мужу.
А утром узнали, что началась война. Сеню призвали в армию защищать Родину. Марья ждала его и каждый день плакала. Утром доила корову, днём работала в колхозе. Однажды, пропалывая грядки в огороде – упала. Когда очнулась, поняла, что беременна, рассказала свекрови. Авдотья обрадовалась.
Вскоре в деревне появились немцы, поселились в их избе, но женщин не обижали.
Когда пришёл срок рожать, Марью повезли опять в Покровку. Шёл снег. Белые хлопья, словно шапки, покрывали кроны сосен. «Зачем мне всё это? – думала девушка. – Ведь Сеня не пишет. Жив ли он, мой Сенечка?» И всё же, несмотря ни на что: ни на войну, ни на голод, Марья очень ждала появления на свет мальчика. Мальчик и родился. Назвали круглолицего карапуза тоже Семёном. Местные поговаривали, что нельзя одним именем называть отца и сына. А Марья не послушалась.
Мальчишка рос спокойным и рассудительным. Вот уж и два года ему исполнилось. Сеня младший ходил твёрдо и уверенно, произносил слова «мама, папа, баба»; часто сиживал на крыльце, рассматривая красочные рисунки в единственной имевшейся у него книжке «Русские сказки».
Как-то Марья была в избе, и вдруг услышала голос почтальона: «Открывайте! Вам письмо». Они с Авдотьей, спотыкаясь о порожки, бросились на улицу. Девушка взяла конверт, испуганно затряслась: не известие ли о смерти мужа? Но нет, на военном треугольнике адрес был написан его рукой. Достали листок, прочли. Оказывается, Сеня был в плену. Когда освободили, попал в дивизию, что сражалась под Курском. «Сейчас гоним немца со своей земли. Люблю вас! Получил от вас за всё это время всего одно письмо. Знаю, что у меня сын Сенька. Машенька моя милая, как же я счастлив! Ждите, я скоро вернусь».
Марья и Авдотья сели на крыльцо, взяли маленького Сенечку на руки и заплакали…
Но Семен так и не увидел своего сына. Немецкие войска, отступая, бомбили города и сёла. Бомба попала и в Сенин дом. Три самых близких ему на этом свете человека погибли…
* * *
Люба взяла с подоконника свои любимые папиросы «Беломорканал», закурила. Почему-то сегодня она смотрела не на Сеню и не в окно, а на противоположную стену, где висела репродукция картины Перова «Охотники на привале». Люба курила, молчала и думала о своей никчёмной, никому не нужной жизни.
«Как похож один из охотников на моего первого мужа Максима. Тот мог быть изысканным, элегантным, а мог – и разухабистым, удалым, совсем-совсем простым, как вот тот на картине, хохочущий, в сдвинутой набекрень кепке».
«А, собственно, что моя жизнь? – думала Люба. – Череда бесконечных невезений и остановок не по расписанию. Вот живу с Сеней… А могла бы жить совсем по-иному: в роскошной пятикомнатной квартире на Арбате, ходить в консерваторию каждый день и слушать своего любимого Вагнера, дрожать от прикосновения дорогого, статного, интеллигентного Максима. Почему всё так перевернулось, почему опять не тот полустанок, а может быть, тот?»
Вдруг слезинка скатилась по её щеке. Сеня, словно почувствовав неладное, отвернулся от окна и испуганно посмотрел на Любу.
– Что, Любанечка, с тобой?
– Да ничего, ничего… Руку-то убери со столика.
Она смахнула ладонью слезу, решительно встала, подошла к гардеробу, открыла дверцу и начала перебирать висевшую на вешалке одежду. Задумалась, потом всё-таки сняла серое габардиновое пальто с чернобуркой, вынула из стоявшей на полочке коробки замысловатую, с каким-то странным сооружением из петель чёрную шляпку, подошла к зеркалу, накрасила ярко-красной помадой пухлые губы, припудрила маленький курносый носик. Накинула пальто, пристроила на голову шляпку. Натянуть маленькие сапожки на каблуках ей помог Сеня.
– Ты далеко собралась? У тебя же сегодня работа!
– Да не пойду я, – упрямо и твёрдо сказала она ему. – Ешь суп куриный да картошку жареную. А я в Москву поеду. Что-то сердце болит за маму.
Не оборачиваясь, Люба вышла из комнаты, машинально поздоровалась с соседкой Лидой.
– Ты куда так вырядилась?
– Да к маме еду.
– Ну-ну, – усмехнулась Лида.
Люба спустилась по лестнице на первый этаж. Из приоткрытой двери парадного на неё дохнуло морозным воздухом. Добираться до станции пришлось с трудом. Улицу не чистили, а немногочисленные прохожие, утоптав с утра тротуар, сделали его гладким и ледяным. Каблуки то проваливались в снег на обочине, то прорезали ледяную корку. Мысли путались, душа в смятении то ли болела, то ли надрывно плакала. «Господи! Вот уж мне и семьдесят, а я всё хожу по той же окаянной колее любви. Зачем, зачем? Почему опять думаю о нём? Стыдно, тоскливо, на что надеюсь, зачем жду?..»
Подошла электричка. В полупустом вагоне Люба села на скамейку у окна и стала разглядывать проплывающие мимо дома, деревья, ветви которых покрывал сверкающий под лучами солнца снег. Вот и Москва, метро, станция «Арбатская». Сколько раз она приезжала сюда, заходила в магазин при ресторане «Прага», чтобы купить своей, теперь уже девяностолетней, маме маленькие пирожные-корзиночки, вкусные паштетики и салатики. Вот и сейчас, пока пробивали в кассе чеки, опять украдкой оглядывалась вокруг. А вдруг он войдёт и увидит её! Целых сорок длинных-длинных лет ждала и знала, что когда-нибудь этот день настанет. Машинально собрала с блюдечка сдачу: три золотистых монетки. Открыла чёрную лаковую сумочку. И вдруг кто-то тронул её за плечо.
– Любавушка?!
И тут она поняла, что это был его голос, жёсткий и мягкий, бархатистый и глухой. Она хотела обернуться, но не могла. Ноги в маленьких сапожках вмиг приросли к холодному мраморному полу. Ладонь разжалась и мелочь разлетелась в разные стороны. А Люба не решалась пошевелиться. Какой-то мальчик лет двенадцати поднял монетки и протянул ей: «Ба…, ой, извините, возьмите, пожалуйста».
Люба сделала два шага в сторону. Как и прежде, как и много лет назад, на неё смотрели его глаза, – бездонные, чёрные, как ночное небо, бархатные, как тот маленький воротничок на его пальто…
– Любавушка, Любавушка… – он взял её руку и поднёс к своим губам.
Она засмущалась, осознав всю нелепость своего одеяния. Сегодня эта шляпка, это пальто, подхваченное широким поясом, смотрелись, пожалуй, как нечто смешное и старомодное. Но именно так Люба была одета в день их последней встречи.
– Что привело тебя сюда?
– Я много лет покупаю для мамы в этом магазине пирожные и всякие вкусности.
– А мама жива?
– Да, слава Богу. А ты как?
– Один, уже пять лет один… Зоя умерла, у неё была онкология. Я хотел найти тебя, но работа, связанная с бесконечными переездами, не позволяла. К тому же, я всегда знал, что ты меня не простишь…
Люба подошла к прилавку, протянула чек, взяла пирожные и тихо-тихо прошептала:
– Я тебя давным-давно простила. Всё в моей жизни расстроилось, и мой поезд сошёл с основного пути. Вот так я теперь и живу на полустанке!
– Любавушка, давай поднимемся в ресторан и хотя бы один час посидим рядом и поговорим. – Максим лихо щёлкнул каблуками, подставил Любе локоть, она осторожно просунула тонкую руку в образовавшийся треугольник и почему-то подчинилась этому до боли родному человеку.
В зале ресторана был полумрак. Играл тапёр. Тихая музыка обволакивала сердце. Молодая пара плавно двигалась под звуки танго.
– Любавушка, расскажи, как ты жила, как сын?.. Знаешь, если в твоей жизни ничего не изменилось, я не отпущу тебя. И если всё по-иному – всё равно не отпущу!
Принесли в ведерке бутылку шампанского «брют» для Любы, двести граммов водки, селёдочку с картошкой, а ещё – горький шоколад и маленькие пирожные.
– Как всегда. Ты ещё помнишь?
– Всё забыл, пытался забыть… Но каждый убеляющий мои виски год открывал в моей памяти какие-то сложные лабиринты.
На Любе было простое бордовое платье, а чёрную смешную шляпку с выкрутасами она так и не сняла.
– Прости, что я так нелепо одета, я осталась в том времени. Выскальзывая из своей жизни, приезжала сюда… я хотела вернуть все те дни, но, увы…
– А я думал, что ты никогда не вернёшься в наш старый город-пригород.
– Ты ошибался.
– … Любавушка! – Максим испуганно дотронулся до её руки: – только обо всём ты расскажешь потом. Давай выпьем.
Подошел официант. Наполнил рюмку Максима и бокал Любы. Выпили, не чокаясь. Потом Максим встал, приблизился к Любе и почти беззвучно спросил:
– Потанцуем?
Она поднялась, хотела снять шляпку, но он не позволил ей этого сделать. Обняв Любу, он повёл её под звуки медленного танго по залу.
– Я хочу, чтобы всё вернулось. Слышишь?
– Да! – почти неслышно прошептали её губы.
Он прижал её к себе, но не сильно, а трогательно и нежно. Максим изредка дотрагивался до её прядей, покрытых, как паутинкой, лёгкой сединой; он верил, что она вернётся к нему и простит. Он один, один… Это жуткое слово «одиночество» расплывалось в белых облаках, в дорожных колеях, в расходящихся рельсах. А он спешил, двигался по этой жизни, только бы не вспоминать. Но теперь-то он понимает, что любит ещё сильнее, чем прежде! Одно её желание – и его дом станет их общим домом.
«Зачем останавливать этот медленный шаг, утопающий в тягучем звучании до боли знакомой мелодии, зачем куда-то уезжать, а потом опять возвращаться к себе, к своему «я», к своим обидам, которые резали так больно, словно скальпель рассекал тело. Я не смогу опять любить. Горькое-горькое, тоскливое, невыносимое чувство потери. Но и уйти не смогу. А остаться?» – Люба повернулась на каблуках так лихо, что он, её милый, дорогой Максим, едва устоял на ногах.
«Сегодняшние семьдесят не равны тем тридцати. Эта встреча ничего не изменит!» – Люба подошла к столу, взяла маленькую сумочку, надвинула нелепую шляпку на глаза, иронично улыбнулась, подняла бокал, допила вино и, не прощаясь с Максимом и не оборачиваясь, вышла из зала.
Она не замечала, как текли по лицу слёзы, как они падали на красную ковровую дорожку лестницы. Каблуки отстукивали боль, а сердце вот-вот должно было остановиться.
Но нет, оно стучало, увы, не размеренно. Оно пульсировало, ударяя в грудь, как шквал волн в океане…
Люба перешла площадь, спустилась по ступенькам в метро. Пока ехала от станции «Арбатской» до «Киевской», где жила мама, её мамочка Марьюшка, вспоминала, вспоминала всё-всё-всё. Всю свою жизнь, может быть, никчёмную, но обольстительно сладкую.
Вот она сидит на камне у подножия скалы, далеко-далеко в море, к ней приближается, рассекая огромными, сильными руками волны, молодой мужчина. Юноша взбирается на большой камень, у него блестящие чёрные глаза и мокрые чёрные, с проседью, волосы. Он садится рядом.
– Максим.
– Люба.
Берёт её руку, целует. Порывисто обнимает девушку, неуклюже пытается поцеловать в щёку. Люба отстраняется, и они падают в воду. Она почему-то не сердится, а просто плывёт, всё быстрее и быстрее; он, словно охраняя её, синхронно движется рядом. Вдруг справа от Любы появляются два дельфина и начинают играть с ней, оттесняя своими блестящими телами парня. Их плавники и хвосты, поглаживая её, пытаются преградить дорогу к берегу, зазывают в море, к горизонту. Люба, прекрасная пловчиха, увлекается необыкновенной игрой с дельфинами, забывает о Максиме. И вдруг догадывается, что не пять, не десять минут, а, пожалуй, полчаса, подпрыгивает на телах дельфинов, то погружаясь в волны, то возвращаясь на поверхность. А дельфины не пускают её к берегу, уводят всё дальше и дальше в море. Силы покидают Любу. Она с ужасом начинает понимать, что утонет. Руки слабеют…
Неожиданно рядом появляется Максим. Он делает какие-то немыслимые сальто над водой, оттесняя своим крепким телом серебристых соперников, то появляясь над волнами, то уходя под воду.
И два красавца-дельфина, словно почуяв человеческую страсть и силу, отступают, исчезая где-то у полосы горизонта.
– Люба, держитесь за моё плечо, отдохните чуть-чуть. Дельфины так далеко увели нас в море, заиграли совсем.
Они выбираются на берег, на пляже пустынно. Лишь лодочник гремит цепями, прикручивая лодку к железному штырю. Люба тяжело дышит.
– Спасибо. А ведь я могла утонуть.
– Я испугался. Понял, что вы не знаете о коварстве дельфинов.
– Ну, конечно, я слышала о разных историях, но что сама окажусь в таком положении…
– Позвольте пригласить вас вечером вон в то маленькое кафе, – Максим показал рукой в сторону горы.
– Хорошо…
Они сидели за небольшим столиком, на столе в стакане горделиво возвышалась желтая роза на тонком стебельке. Максим посмотрел в Любины зелёные глаза и сказал:
– Я вернулся с фронта, живу в Москве, но служить не бросил. Я человек военный, – он помолчал, достал из кармана гимнастёрки пачку «Казбека», вынул папиросу, закурил. – Вам это не помешает?
Любочка смущённо улыбнулась, открыла круглый замочек крохотной белой сумочки, извлекла оттуда «Беломор».
– А вам это не помешает? – она поднесла папиросу к губам. Максим подал зажигалку.
Они долго сидели молча, пуская колечки дыма и поглядывая вниз с горы на море, где среди разыгравшихся волн пробивалась одна узенькая серебристая полоска от выглядывающей из-за сгущавшихся туч луны.
– Вы не замужем?
– Нет, я живу со старшей сестрой в Москве. Она врач, а я окончила техникум, гордо зовусь экономистом и работаю на заводе.
– Любочка… Мы с вами приняли в море боевое крещение. Дельфины дали мне космический знак… Будьте моей женой!
– Я?! – Люба от неожиданности расхохоталась. Она и всегда была смешливой, но чтобы вот так, сразу, стать женой военного? И поняла: этот красивый юноша – её судьба, это – на всю жизнь.
* * *
Было холодно. Она спешила к маме, кутаясь в пальто и пелену чудесных воспоминаний.
Жила мама с семьёй младшей дочери Даши на Студенческой улице в комнате на первом этаже. Люба вошла в парадное, позвонила. Дверь открыл Славик, муж Даши. И вдруг Люба увидела, что у него глаза чёрные, как угли.
– Проходи, проходи, – Славик, а теперь уже Вячеслав Петрович Коржиков, ныне пенсионер, слыл заядлым рыбаком, любил свою тёщу, всех её сыновей и дочерей купеческих, был молчалив, приветлив. Он попытался пропустить Любочку в комнату.
– Привет, привет, – раздалось из открытой двери напротив. На железной кровати, которая была видна в проеме двери, спиной ко всем сидели и целовались Яшка и Мира Белкины, еврейские соседи четы Коржиковых.
Когда кто-то приходил, они прекращали целоваться, поворачивались к двери, стукались носами и выкрикивали приветствие, и уже через секунду возвращались к прежнему положению. Тридцать лет назад здесь так же целовались тогда ещё молодые Яшкины родители. Время словно остановилось…
В небольшом коридорчике появился Вован Голошаев, сосед из третьей комнаты.
– Во, принесла нелёгкая. Бутылку купила? – На Воване была голубая майка, на плече татуировка – орёл с кинжалом в клюве, а на фоне масляной голубой стены выделялись его длинные красные трусы в зелёный горошек.
– Нет. Забыла купить. А, собственно, что ты у меня всё бутылки выпрашиваешь?
– Да катись ты… – Голошаев плюнул и проскользнул в кухню.
Любочка вошла в комнату.
– Мамочка, здравствуй!
– Любанечка, Любонька моя! – еле слышно проговорила маленькая старушка, сидевшая в углу. У неё были большие голубые глаза; почти прозрачные, они смотрели теперь на мир спокойно, безобидно и, казалось, без волнений. Шёл Любиной маме девяносто первый год.
А когда-то Мария Васильевна, её, Любина, любимая Марима-мушка была строгой, высокой, спину всегда держала прямо, русые волосы заплетала в две тугие косы и узлом укладывала на затылке. Ещё до революции вышла замуж за купца Михаила, который имел скобяные лавки да кабачок в их маленьком городке Ряжске на Рязанщине. Жену Михаил уважал, нарожала она ему семерых детей, слушалась его во всём. Не пререкалась, если непослушного Васеньку да смешливого Павлушку муж ставил в угол на горох на целый день за любую малую провинность. А девок – Анну старшую, Александру, Любаню да младшенькую Дашу очень любил, баловал, покупал им разных смешных игрушечных обезьянок, медвежат. Кукол в их доме целых пять было. Мамочка шила всем куклам платья, а одна, в розовом капоре, уже много лет жила без обновок. Вот и в нынешний Любин приход сидела эта кукла на верхней полке этажерки и смотрела на всех с грустью и печалью. Так же, как семьдесят лет назад, когда осталась кукла одна, без хозяйки, их сестрёнки Ниночки, которая умерла во младенчестве. А мамочка словно вложила в эту куклу все свои воспоминания, всю скорбь о дочке на долгие-долгие десятилетия, и никогда с куклой не расставалась.
Любочка распаковала сумки, достала салатики да пирожные, сняла своё габардиновое пальто и уселась рядом с мамой.
– Дарья на работе задерживается, а я вот одна сижу, – проговорила Мария Васильевна.
– Ничего, мамочка, я её дождусь, – Люба взяла из немецкого серванта старинную кузнецовскую тарелочку с незабудками, положила на неё два маленьких пирожных и протянула их маме.
Та стала откусывать лакомство потихонечку, да и не откусывать вовсе, а, пожалуй, отщипывать дёснами, – ведь зубов у неё давно не было.
– Ой, как вкусно, Любочка, – она взяла Любу за руку. – Что это у тебя рука дрожит, случилось что? Да и пришла ты поздно.
– Да нет, мамочка, просто сегодня случайно встретила… – она вздохнула, проглотила слюну.
Мария Васильевна вся напряглась и вдруг чего-то испугалась.
– Кого?
– Максима.
– И что же?.. Господи, сорок лет прошло. Он жив? – как-то почти гневно произнесла Мария Васильевна, и словно почувствовав что-то, вскрикнула:
– Не вздумай, не вздумай простить ему всё.
– А что, собственно, мамочка, прощать? Ведь и Серёжи уже более десяти лет нет. И всё забылось.
– Забылось?! Как Серёженьку, больного, слабого, лечили, ставили на ноги, как копейки считали? А он, муж-то твой, сбежал, чего испугался-то? А ведь это был его ребёнок! Предал он вас, предал. А ты всё забыла, – вдруг она тяжело задышала. Пирожное из её маленькой, сморщенной руки упало на пол. Люба, испугавшись, схватила валидол с тумбочки, положила его маме под язык.
– Слышишь, никогда, никогда не смей его прощать!
– Хорошо, хорошо, – но думала она сейчас о том, что всё бы бросила и убежала к Максиму, чтобы опять окунуться в эту пучину любви, забыть обиды, страдания, безденежье…
Прервала Любины размышления вошедшая в комнату её сестра Даша.
– Любочка, рада тебя видеть, – сказала она, поцеловав Любу, и тут же бросилась к сидевшей в углу побледневшей Марии Васильевне.
– Мамочка, что, что с тобой?
– Всё хорошо, всё нормально, – Мария Васильевна заговорщически посмотрела на Любу, прижав к губам палец.
– Я уж пойду. Ты прости меня, а то Сеня будет волноваться. Темнеет уже, – обратилась Люба к сестре.
– А чай? А по рюмочке?!
– Ну, если по маленькой…
Вошёл Славик. Достал из серванта бутылочку кагора, рюмки. Дарья открыла стоявший у двери холодильник, вынула тонко нарезанную сырокопчёную колбасу и холодец, постелила белоснежную скатерть, расставила тарелки. Все присели к столу.
– Ну, твоё здоровье, мамочка!
– Спасибо, родные вы мои! – по щеке Марии Васильевны скатилась слеза.
* * *
Люба возвращалась домой, и опять думала, и опять вспоминала то счастье, завернутое в обёртку боли и страданий.
День свадьбы. Максим несёт невесту на руках. Рядом идут две подружки. В его петлице и на её фате по белой веточке сирени. Шаг, два, десять, вот и поворот, и Арбат, и второй этаж, и его огромная квартира, и ходики на стене, и портрет его бабушки – красавицы в кружевах, в прошлом графини. Стол, уставленный яствами, приготовленными старшей сестрой Любы Аннушкой. На стульях восседают Любины братья Пашенька и Вася, которые живут и учатся в Москве на инженеров. Дашенька, маленькая, осталась дома с няней. А мама приехала и привезла старинную икону Николая Чудотворца.
– Дорогие мои Любочка и Максим! Благославляю вас. Я хочу, чтобы жили вы долго и счастливо в радости и трудах, чтобы были у вас дети, много детей.
Они подходят к Марии Васильевне, наклоняют головы, целуют икону, мамочка обнимает их.
За столом Софья Петровна, мать Максима, и Георгий, брат. Георгий с каким-то нескрываемым волнением смотрит на Любу.
– Горько, горько! – Максим целует невесту. Она околдована его взглядом, его объятьями. Ещё она помнит, как кольцо с руки Максима упало в старинный зелёный фужер. И он сказал: «К счастью». Выпил залпом шампанское, достал кольцо, надел на палец. Взял Любочку на руки, и они закружились в вальсе по комнате…
* * *
Было темно и жутко, лишь в конце улицы горел одинокий фонарь, тень от него узкой стрельчатой полоской прорезала снег на мостовой. Люба быстро шла в сторону дома, реально ощущая свою вину за всё содеянное. «А, собственно, в чём я виновата? В измене? Нет. В мыслях, в желании уйти от Семёна? Да…»
Вдруг она споткнулась и сильно подвернула ногу. Идти дальше не смогла. Холод пробирался под воротник, ветер поднялся страшный. Боль в ноге усиливалась. Люба услышала шум проезжающей машины, попыталась поднять руку. «Жигули»-«копейка» (Люба знала эту модель) остановились и сдали назад. Из машины вышел высокий парень.
– Что с вами?
– Нога…
– Давайте я вас отвезу в травмпункт, – парень попытался её поднять.
Люба вскрикнула от боли
– Может быть, не нужно?
– Кажется, просто необходимо.
Он помог ей сесть на заднее сидение. Доехали до травмпункта, Любе сделали рентген: оказался вывих лодыжки. Старенький доктор в очках лихо вправил сустав, зафиксировал его бинтами. Боль постепенно уходила.
– Ну, радуйтесь, милочка, отделались лёгким испугом.
* * *
Сеня стоял у двери парадного уже два часа. Он продрог, старая куртка на ватине грела плохо, но Сеня не хотел возвращаться, чтобы надеть дублёнку. Ждал и ждал, то выбегал на улицу, то снова шёл к дому. Выкурил уже полпачки сигарет, но Любы не было. Он понимал: с ней что-то случилось, но думать о худшем не хотел. Неожиданно тягостную тишину прорезал шум приближающегося автомобиля.
У парадного было темно, но Семён всё же различил фигуру мужчины, который наклонился, чтобы помочь. Из машины, осторожно ступая и хромая, вышла Люба.
– Ты давно ждёшь меня? – как-то виновато проговорила она.
– Сбился в мыслях и времени… Что-то с Марией Васильевной?
– Нет-нет. Всё в порядке. Ногу подвернула, чуть-чуть не дойдя до дома. Слава Богу, остановилась рядом машина. Вот молодой человек отвёз меня в больницу. Оказался вывих.
– Спасибо. Огромное спасибо! – Сеня пожал юноше руку.
Они поднялись по шатким деревянным ступенькам, вошли в квартиру.