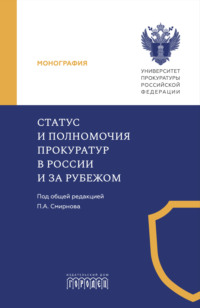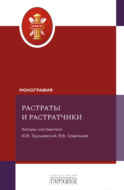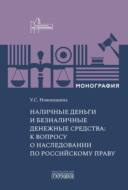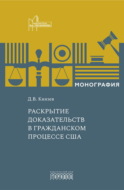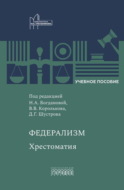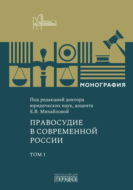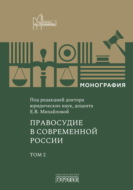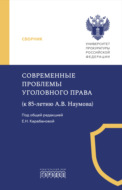Kitobni o'qish: «Статус и полномочия прокуратур в России и за рубежом»
© Университет прокуратуры Российской Федерации, 2025
© Коллектив авторов, 2025
© ИД «Городец», оригинал-макет (верстка, корректура, редактура, дизайн), полиграфическое исполнение, 2025
* * *
Авторский коллектив
Додонов В. Н., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (текст монографии в соавторстве с Д. И. Ережипалиевым, Е. В. Кремневой, П. А. Смирновым, И. В. Чащиной);
Ережипалиев Д. И., кандидат юридических наук, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (раздел 4.8);
Кремнева Е. В., старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (раздел 4.5 совместно с В. Н. Додоновым);
Смирнов П. А., кандидат юридических наук, заведующий отделом научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (введение и заключение, совместно с В. Н. Додоновым);
Чащина И. В., кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (разделы 3.3, 3.4, 3.6 совместно с В. Н. Додоновым).
Введение
Прошло уже много лет с момента издания предыдущих работ, посвященных сравнительному исследованию прокурорских ведомств: справочников «Прокуратуры стран мира» 2006 г.1 и «Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран» 2010 г.2
Можно сказать, что с тех пор сменилась целая эпоха и мы вступили в новую реальность, которая требует своего осмысления. Сегодня уже не приходится отбиваться, как 20 лет назад, от настойчивых «рекомендаций» различных европейских структур, как нам лучше обустроить российскую прокуратуру, чтобы она соответствовала чьим-то «стандартам». Наша страна выбрала свой путь развития.
Отечественная прокуратура за последние 30 лет вместе с коренными экономическими и социально-политическими преобразованиями в России прошла долгий и сложный путь реформирования. Одним из главных итогов этого пути стало закрепление ее статуса и основных полномочий в обновленной редакции Конституции Российской Федерации, вступившей в силу 4 июля 2020 г.
Конечно, это не «конец истории» и совершенствование правового статуса и полномочий российской прокуратуры будет продолжаться.
Пути для дальнейшего развития может указать не только собственная повседневная практика, но и внимательное изучение зарубежного опыта. При всём значении национальной специфики и местных государственно-правовых традиций, существует нечто общее, что объединяет все прокурорские службы мира, а значит, нельзя пренебрегать анализом общемировых тенденций, объективных закономерностей и потребностей.
Произошедшие за последние десятилетия во многих странах правовые реформы, принятое новое законодательство о прокуратурах и уже накопленный опыт его реализации представляют весьма богатый и ценный материал для изучения.
В частности, только за последние 15 лет (с 2008 г.) новые законы об органах прокуратуры (или их аналогах) приняты более чем в 40 странах (Абхазия, Аргентина, Армения, Бутан, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Замбия, Зимбабве, Индия, Казахстан, Кения, Киргизия, КНР, Куба, Мальдивы, Мексика, Молдова, Монголия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, Танзания, Туркменистан, Украина, Уругвай, Хорватия, Филиппины, Финляндия, Черногория, Швейцария, Эфиопия и др.).
Во многих странах за тот же период приняты новые конституции или прошли конституционные реформы, затрагивающие статус прокурорских служб (Ангола, Боливия, Бутан, Венгрия, Египет, Зимбабве, Кения, Киргизия, Куба, Мальдивы, Россия, Руанда, Самоа, Сербия, Таиланд, Фиджи).
За этими конституционными и законодательными актами стоят большие и малые трансформации органов прокуратуры, новые тенденции, касающиеся статуса и полномочий прокуроров, а в некоторых странах – даже переосмысление самих основ прокурорской деятельности.
Изложенные обстоятельства обусловили актуальность проведения сравнительно-правового исследования современных тенденций, конституционных и специальных правовых положений, определяющих полномочия прокуроров и опыт их реализации в зарубежных странах, для обоснования предложений о совершенствовании роли и полномочий прокуратуры в Российской Федерации.
Цель авторов настоящей работы заключалась в получении на основе сравнительного анализа современного зарубежного опыта новых научных результатов, которые могут быть использованы для устранения возможных недостатков и дальнейшего развития нормативного регулирования полномочий органов прокуратуры Российской Федерации.
В соответствии с поставленной целью задачами проведенного авторами исследования являлись:
1) анализ и классификация существующих в современном мире моделей органов прокуратуры и их аналогов;
2) выявление общего и особенного (основных различий) в правовом статусе органов прокуратуры и их аналогов в современных странах, а также статусе их сотрудников.
3) выявление круга полномочий, присущих прокурорам зарубежных стран;
4) классификация полномочий зарубежных прокуроров на универсальные, широко распространенные и специфические;
5) выявление соотношения полномочий прокуроров различных моделей зарубежных прокуратур с полномочиями органов прокуратуры Российской Федерации;
6) исследование опыта реализации прокурорами различных стран своих полномочий и выявление той его части, которая может представлять наибольший интерес для совершенствования деятельности прокуратуры Российской Федерации.
При подготовке настоящей работы были использованы данные по законодательствам более чем 100 государств, представляющих все основные правовые семьи современности. Авторы старались рассмотреть максимальное число стран, поскольку ограниченное число примеров правовых систем, пусть даже весьма значимых, не позволяет выявлять общемировые тенденции развития и делать широкие обобщения.
В то же время авторы постарались изучить и учесть научные публикации новейшего периода, посвященные российской и зарубежным прокуратурам, особенную ценность из которых представляют работы иностранных авторов, хорошо знакомых с местной спецификой.
К сожалению, в рамках настоящей работы оказалось невозможно подробно рассмотреть весь имеющийся у современных органов прокуратуры в различных странах «арсенал» полномочий. В связи с этим авторы надеются, что они получат должное отражение при подготовке последующих, расширенных изданий монографии.
Глава 1. Прокуратура в сравнительном праве: понятие и модели
1.1. Понятие прокуратуры для целей сравнительного исследования
Имея опыт компаративистских исследований в различных отраслях права, можно утверждать, что сопоставление различных институтов прокуратуры и их аналогов в современном мире является, пожалуй, наиболее сложным разделом сравнительного правоведения.
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, что мы понимаем под «прокуратурой» для целей сравнительного правоведения, и этот вопрос является далеко не простым. Традиционная для России концепция прокуратуры как органа, объединяющего функции надзора за законностью, уголовного преследования, представительства в суде государственных и общественных интересов, защиты прав граждан, а также ряд иных, имеет относительно небольшое распространение в современном мире по числу стран. В большинстве государств органы, отвечающие за уголовное преследование, наделены дополнительно лишь некоторыми вспомогательными, второстепенными функциями. В то же время параллельно с ними имеются другие институты, наделенные функциями представлять государства в судах, а иногда также защищать законность и права человека. В категориях правовой системы России и те и другие в равной мере должны рассматриваться нами для целей сравнительного правоведения как «органы прокуратуры».
Исходя из этого факта, можно предложить следующее «универсальное» определение прокуратуры как объекта сравнительно-правового исследования: «система государственных органов (единая или разделенная), специально созданных, чтобы представлять государство в суде по различным делам, а также в большинстве случаев для осуществления уголовного преследования и выполнения иных функций, касающихся защиты государственных и общественных интересов, законности (верховенства права) и прав человека».
Для российского юридического мышления, всегда воспринимавшего прокуратуру только как единую централизованную структуру, весьма непросто представить, что в зарубежных странах это могут быть два (или даже три) разных, самостоятельных ведомства со своим набором функций.
Так, в некоторых странах Латинской Америки (Боливия, Венесуэла, Гватемала, Колумбия, Парагвай, Перу и др.) прокуратура на конституционном или законодательном уровне разделена на два ведомства. Одно из них (именуется “Fiscalia General”) осуществляет уголовное преследование, а другое (с характерным названием “Procuraduria General”) надзирает за законностью и представляет государство в судах по неуголовным делам (гражданским, административным, конституционным).
Аналогичное разделение наблюдается и в большинстве стран английского права (Австралия, Англия, Индия, Канада и др.), где уголовное преследование осуществляет служба Директора публичных преследований (или Национальная служба уголовного преследования), а прочими юридическими делами государства занимается ведомство Генерального атторнея (примечательно, что английское слово “attorney” и испанское “procurador” переводятся одинаково как «поверенный») или иное специальное ведомство (служба Генерального солиситора).
Чтобы рассматривать обобщенно и не путать эти ведомства в русскоязычном сравнительном исследовании нужен соответствующий понятийный аппарат, хотя бы условно и очень приблизительно отражающий суть различий.
В связи с этим полагаем уместным и целесообразным обобщенно обозначать в дальнейшем первый тип органов как «уголовная прокуратура» (специальный орган уголовного преследования). В данном случае определение «уголовная» указывает именно на основную сферу деятельности и охватывает целый ряд иных функций, которые не сводятся лишь к поддержанию обвинения или осуществлению уголовного преследования как такового.
Органы, которые осуществляют разнообразные прокурорские (с точки зрения российской системы) функции вне уголовно-правовой сферы для целей сравнительного исследования мы будем условно обозначать как «неуголовная прокуратура». Как правило, в число таких функций входят представительство государство в судах по гражданским, административным и конституционным делам, юридическое консультирование правительства, иногда также защита законности, конституционного строя и прав человека. В силу такого разнообразия и вариативности функционала этот тип органов невозможно обобщенно обозначить по профилю деятельности, например, как «гражданскую» или «надзорную» прокуратуру.
Применительно к ряду стран Латинской Америки (и некоторым другим) также можно говорить о существовании там «правозащитной прокуратуры» (в Аргентине этот термин вообще закреплен на законодательном уровне).
Таким образом, для целого ряда стран с точки зрения сравнительного права «прокуратурой» следует считать не какой-то один орган, а совокупность разнопрофильных органов, между которыми существуют отношения независимости, автономии или подчинения (иногда это называют «горизонтальной децентрализацией»).
В некоторых случаях наряду с собирательным понятием «прокуратура» представляется уместным (и более точным) оперировать понятием «органы, выполняющие прокурорские функции».
К таковым могут быть отнесены:
– службы государственного обвинения (уголовного преследования);
– министерства юстиции (если они непосредственно осуществляют государственное обвинение);
– органы юридического представительства государства;
– органы надзора за законностью;
– независимые антикоррупционные органы;
– правозащитные органы (если они наделены специальными властными полномочиями). Вторая «терминологическая» проблема сравнительного исследования связана с тем, что в отечественном сравнительном правоведении сложилась традиция считать, что институт прокуратуры существует только в странах романо-германской и социалистической семей права, а в англо-американской правовой семье, в лучшем случае, – лишь его «аналоги».
Когда-то давно такой подход действительно имел определенные основания, но за последние десятилетия в самой Англии и большинство ее бывших колоний были созданы самостоятельные ведомства, наделенные различными функциями по уголовному преследованию. Как бы необычно (для нас) они ни назывались, но по сути являются прокурорскими органами в их широком сравнительно-правовом понимании. Как, впрочем, и сами атторнейские службы.
Сегодня ученые-компаративисты являются, пожалуй, единственными, кто называет американских прокуроров «атторнеями», хотя в русскоязычных СМИ и литературе давно привычными стали словосочетания «генеральный прокурор США» или «прокурор штата». И это не приводит к каким-то существенным искажениям смысла понятий.
Ведь дело, конечно, не в «аутентичном» иноязычном названии того или иного института. Парламент, может, например, называться Альтингом, Кнессетом или Хуралом, и это никак не влияет на его юридическую природу.
В большинстве европейских языков названия должности прокурора (государственного обвинителя) этимологически происходят слов «поверенный» или «адвокат». Как, впрочем, и само слово «прокурор», происходящее от лат. procurare, что означало «заведовать, управлять по поручению, от имени кого-либо вести дела». При этом непосредственно термин «прокуратура» используется лишь в странах на территории бывшего СССР, а также в небольшом числе соседних государств, испытавших ранее советское влияние (Албании, Болгарии, Монголии, Польше, Словакии). Он не известен даже во франкоязычных странах, хотя соответствующая должность там и называется «прокурор» (procureur). Но ни у кого не вызывает сомнений, что “Ministère Public” это именно прокуратура, а не некое «публичное министерство». Равно как немецкое “Staatsanwaltschaft”, которое буквально означает «государственная адвокатура», но всегда читается и переводится нами как «прокуратура».
Оттого, что в Чехии в 1992 г. прокуратуру (prokuratura) показательно (в рамках борьбы с «советским наследием» и в подражание Соединенным Штатам) заменили на «государственное представительство» (Státní zastupitelství)3, она не перестала быть прокуратурой, пусть и с сильно урезанными функциями.
Таким образом, в настоящее время в том или ином «обличии» институт прокуратуры присутствует почти во всех странах мира. Исключения буквально единичны и носят, в большинстве случаев, временный характер.
Так, по сообщению СМИ в 2023 г. в Афганистане талибы упразднили Генеральную прокуратуру и превратили ее в «Управление по надзору и исполнению указов и распоряжений»4. Ранее подобный «эксперимент» уже пробовали проводить в Исламской Республике Иран, где в 1994 г. прокуратура была упразднена как «не соответствующая принципам исламского правосудия» (проведение расследования и поддержание обвинения было возложено на самих судей). Однако в 2002 г. прокурорское ведомство было воссоздано в виде прокуратур, действующих при обычных и так называемых «революционных» судах.
Действительно уникальным для современного мира является образец Новой Зеландии, которая последней сохранила у себя старую английскую систему: вместо государственных обвинителей обвинение в суде от имени Короны поддерживают частные адвокаты, нанятые правительством.
Исходя из изложенного, термин «прокуратура» в настоящей работе используется в широком смысле и «по умолчанию» относится к институтам любой правовой системы, наделенным полномочиями представлять государство по уголовным и иным судебным делам, поскольку крайне важно рассматривать в комплексе все зарубежные органы, выполняющие прокурорские функции.
Такой обобщенный подход не отменяет чрезвычайно значимых типологических различий, имеющих глубокие исторические корни.
1.2. Модели прокуратур и их аналогов в современном мире
По мере формирования современных национальных правовых систем в Европе сложились различные модели прокуратуры и аналогичных им органов, которые впоследствии были перенесены и в другие части света. Особенности этих моделей характеризуются как статусом указанных органов, так и содержанием их функций и полномочий.
Прежде всего необходимо провести различие на уровне основных правовых систем современности. Известный французский ученый-компаративист Рене Давид особо отмечал, что наличие прокуратуры является характерной чертой романо-германской (континентальной) правовой семьи5.
В чем же состоит указанное системное различие? В странах англо-американской системы права органы государственного обвинения исторически возникли как юридический отдел правительства. В Англии долгое время (до последней четверти XIX в.) обвинителями в судах по серьезным уголовным судам выступали адвокаты, нанятые государством. Собственно, слово «атторней», которое применительно к США сейчас обычно переводится как «прокурор», означает поверенного, представителя по юридическим делам. Поддержание обвинения было одной из частных функций по ведению юридических дел правительства, включая консультирование государственных органов и защиту имущественных интересов казны во всех гражданско-правовых спорах. В английской системе права исторически не было властной фигуры прокурора, поскольку английский состязательный процесс предполагал «абсолютное равенство» статуса сторон. Государственные адвокаты никогда не признавались органом юстиции, как это изначально имело место в случае с европейскими прокурорами.
Далее, в английской системе права никогда не стояла задача охраны законности – такого понятия просто не существовало. На протяжении веков закон являлся второстепенным источником права, решительно уступая место бесчисленным судебным прецедентам. К тому же правовое пространство английского государства было чрезвычайно раздробленным: до сего дня здесь сохраняются обособленные правовые системы Шотландии, Северной Ирландии, островов Мэн, Джерси и Гернси.
Развитие правовой системы и общественных отношений в Англии и в большинстве ее бывших колоний потребовало создания профессионального аппарата государственных обвинителей, что и было сделано, как правило, в виде службы Директора публичных преследований. Тем не менее «водораздел» между публичными и частными началами в системе уголовного преследований стран английского права и в наши дни не является жестким. Так, в Канаде федеральная прокурорская служба (Public Prosecution Service of Canada (PPSC)) помимо собственных штатных сотрудников использует услуги 170 частных юридических фирм и примерно 430 адвокатов частного сектора, назначенных в индивидуальном порядке королевскими обвинителями6.
Типологически атторнейские службы США принадлежат к английской системе юридических органов правительства, однако здесь имеется ряд оговорок и особенностей.
Во-первых, отличие состоит в том, что министерство юстиции США, возглавляемое Генеральным атторнеем, является суперведомством, охватывающим почти все правоохранительные функции, относящиеся к федеральной компетенции. По многообразию своих функций оно не имеет аналогов в современном мире, намного превосходя в этой сфере даже такие многофункциональные органы, как прокуратуры России, Испании или Бразилии. Во-вторых, атторнейские службы США не знают строгой иерархической соподчиненности: местные атторнейские органы не подчинены органам штатов, штатные не подчинены федеральным. Местные атторнеи нередко избираются населением по спискам политических партий и играют особую политическую роль в американском обществе.
На европейском континенте государственная власть всегда играла в жизни общества гораздо более значительную роль, чем на Британских островах. Государства не могли себе позволить, чтобы функцию уголовного преследования выполняли адвокаты, поэтому с XVII в. здесь начинает складываться институт прокуратуры как важнейшего элемента всей системы юстиции. Отличие этого института от британской модели, конечно, заключается отнюдь не в терминологии.
Европейский прокурор всегда рассматривался не как юридический агент правительства, а как служитель закона, выступающий от имени всего общества. Если изначально его основной миссией было осуществление уголовного преследования, то в дальнейшем его роль расширилась до защитника законности в целом. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в Российской империи, СССР и возникших на соответствующей территории государствах, а также в Испании, Португалии и большинстве стран Латинской Америки. Здесь прокуратура конституционно возвысилась до статуса самостоятельного государственного института, не подчиненного другим ветвям власти.
По сравнению с другими органами власти (парламентом, правительством, судом) институт прокуратуры в зарубежных странах отличается наибольшей вариативностью, огромным многообразием национальных подходов и решений, что делает весьма затруднительным создание четкой классификации.
С учетом особенностей статуса, организационного строения и функционального профиля на современной «юридической карте мира» можно выделить несколько типов органов прокуратуры и их аналогов.
Постсоветские модели
Исторически сложились на основе советского государственно-правового опыта, но в последние десятилетия всё больше расходятся под влиянием местных социально-политических особенностей.
Первый тип этой модели представляет самостоятельный конституционный орган с сохраняющимися широкими полномочиями внутри и вне уголовно-правовой сферы, включая общий надзор за законностью: Абхазия, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, КНДР, КНР, Куба, Лаос, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Второй тип представляют бывшие социалистические страны (бывшие республики СССР), где функции прокуратуры сильно сокращены ради соответствия так называемым «европейским стандартам». Хотя у них почти не осталось полномочий вне уголовно-правовой сферы, эти органы сохранили независимый (как правило, конституционный) статус и определенную преемственность традиции прокурорской работы. К данной группе относятся: Азербайджан, Албания, Армения, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Северная Македония, Сербия, Словакия, Украина, Хорватия, Черногория.
Определенную сложность представляет отнесение к какой-либо модели прокуратур Польши и Чехии. Под влиянием западно-европейских и американских образцов в этих странах прокурорские органы отнесены к исполнительной власти и подчинены министерству юстиции, однако нельзя говорить о полной рецепции ими, например, «французской» модели или, тем более, американской.
«Иберийская» модель исторически берет свое начало на Иберийском полуострове и распространена (помимо европейских Испании, Португалии и Андорры) во всех странах испанского и португальского языка (Латинская Америка и часть Африки).
Для нее характерен высокий (конституционный) статус прокуратуры, которая независима от других органов власти, хотя официально в некоторых странах относится к судебной власти (Ангола, Андорра, Восточный Тимор, Испания, Мексика, Парагвай, Португалия). Данную модель также отличает широкий круг внутри и вне рамок уголовной сферы, полномочий включая защиту законности, демократического конституционного строя и прав человека.
При этом «иберийская» модель имеет два подвида.
Унитарная иберийская модель предполагает существование единого ведомства, охватывающего весь или почти весь круг прокурорских полномочий. К ней относятся: Ангола, Андорра, Аргентина (но с отдельной правозащитной прокуратурой), Восточный Тимор, Доминиканская Республика (с отдельной с административной прокуратурой), Испания, Кабо-Верде, Мексика, Панама, Португалия, Уругвай, Чили.
Разделенная (дуалистическая, бинарная) иберийская модель основана на идее дуализма прокурорских функций и разделения двух ведомств, названия каждого из которых одинаково переводятся на русский язык как «прокуратура». Как уже нами указывалось, одно из них (именуется “Fiscalia General”) осуществляет уголовное преследование, а другое (“Procuraduria General”) представляет государство в судах по неуголовным делам (гражданским, административным, конституционным), а иногда также надзирает за законностью. Такая система органов закреплена конституционно в Боливии, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Парагвае, Эквадоре, а на законодательном уровне также в Коста-Рике, Перу.
Особый случай представляет Сальвадор, согласно Конституции которого (ст. 191) функции прокуратуры (Ministerio Público) осуществляют «уголовный» Генеральный прокурор Республики (Fiscal General de la República), Генеральный прокурор Республики (Procurador General de la República), Прокурор по защите прав человека (Procurador para la Defensa de los Derechos humanos) и другие должностные лица, определенные законом.
Французская (франко-германская) модель исторически сложилась во Франции и ряде других стран Западной и Центральной Европы, потом была распространена на другие части света в результате колонизации или добровольной рецепции (в основном, в Африке и Азии). Это тип прокуратуры как преимущественно органа уголовного преследования, находящегося в административном подчинении у правительства (министерства юстиции), но при этом структурно привязанного к судам. Прокуроры являются частью судебной системы и имеют одинаковый статус с судьями, образуя с ними общую категорию «магистратов».
Из европейских стран такую модель приняли Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Румыния и Турция (расположена в Европе и Азии).
Вне Европы: Алжир, Йемен, Ливан, Марокко, Мали, Республика Корея, Сенегал, Сирия, Тунис, Япония и ряд других стран.
Скандинавская модель принята в небольшом числе стран на Севере Европы: Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония. Исторически скандинавская правовая семья занимала как бы «промежуточное» место между романо-германской (континентальной) и английской. Это в определенном плане отразилось и на концепции прокурорской службы. Служба уголовного преследования (уголовная прокуратура) относится здесь к исполнительной власти и административно подчинена министерству юстиции, но прокуроры не считаются магистратами (в отличие от французской модели). При этом существует конституционный институт Канцлера юстиции (Финляндия, Швеция, Эстония), который представляет интересы правительства (государства) в суде по неуголовным делам и следит за соблюдением законности. Это должностное лицо имеет определенное сходство с Генеральным атторнеем в странах английского права.
Согласно английской модели органы, выполняющие функции прокуратуры, относятся к исполнительной власти. Их возглавляет Генеральный атторней как юридический советник правительства. Эта модель включает три типа.
Английская модель с независимой службой уголовного преследования (новая). В соответствии с ней поддержание государственного обвинения и осуществление других функций уголовного преследования поручено специальному независимому органу, который чаще всего известен как «офис Директора публичных преследований» и имеет в большинстве случаев конституционный статус. Ведомство Генерального атторнея занимается всеми другими юридическими вопросами, в том числе представляет государство в судах по неуголовным делам (иногда через специальный орган – офис Генерального солиситора).
В настоящее время такая модель получила распространение уже в большинстве стран английского права (Австралия, Антигуа и Барбуда, Англия и Уэльс, Багамы, Барбадос, Белиз, Ботсвана, Гайана, Гамбия, Гонконг, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирландия, Канада, Кения, Маврикий, Малави, Мальдивы, Намибия, Пакистан, Свазиленд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Уганда, Фиджи, Ямайка).
Английская «унитарная» модель (старая) предполагает, что ведомство Генерального атторнея сохраняет все полномочия представлять государство в судах, включая осуществление уголовного преследования (Бангладеш, Бруней, Бутан, Гана, Малайзия, Мьянма, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Самоа, Шри-Ланка). Необходимо отметить, что многими юристами старая английская модель считается анахронизмом и в ряде стран существует движение за создание независимой службы уголовного преследования (например, в Бангладеш, Малайзии)7.
Самостоятельный тип английской модели образует атторнейская служба США.
Разумеется, приведенная классификация сделана с высокой степенью обобщения и предполагает множество оговорок и нюансов.
Помимо указанных типологических, «системных» различий, существует множество аспектов, в которых современные прокуратуры (органы обвинения) отличаются друг от друга даже в рамках одного типа или модели.
В последние три десятилетия можно наблюдать формирование особой общности «европейских прокуратур», в которой на основе общих «стандартов» Европейского союза и Совета Европы все восточноевропейские и некоторые постсоветские государства (Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Украина, Эстония) радикально реформировали свои ведомства, чтобы сблизить их с «франко-германской» моделью. В основном это выразилось в резком сокращении функций прокуратур и сведении их почти исключительно к сфере уголовного преследования. Непременным атрибутом «соответствующих евростандартам» прокуратур теперь стало также участие специального независимого органа (Совета прокуроров или Высшего совета магистратуры) в назначении прокуроров и решении других кадровых вопросов. Третьей чертой современных европейских прокуратур можно назвать наличие специализированного органа по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который может быть автономной частью прокуратуры или независимым ведомством с прокурорскими (обвинительными) функциями. Иногда профиль этого органа включает также серьезные экономические и другие «сложные» преступления.
Bepul matn qismi tugad.