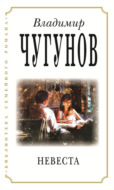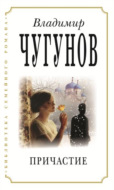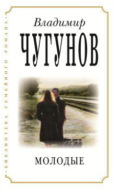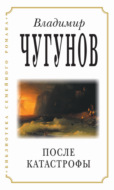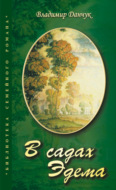Kitobni o'qish: «Русские мальчики (сборник)»
© Чугунов В. А.
* * *
Посвящается жене – Галине Николаевне
Русские мальчики
«… И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время».
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»
«Человека чести и ума, таланта и сердца – не спрашивают о его «предках», ибо он сам есть «предок» для грядущего потомства».
И. А. Ильин
Часть первая
Глава первая
1
Пастушеский сезон 1989 года был последним годом моего своеобразного затворничества и казался завершающим перед вступлением в новый период жизни.
Той осенью в меня стреляли. Теперь мне кажется, выстрел этот имел некое символическое значение. Как бы обрывалась связь с прошлым или пуповина. Кончалось время ученичества, я стоял на распутье, как и восемь лет назад, в 1981 году, и не знал, на что решиться, что выбрать. И, чувствуя в себе неуёмную жажду деятельности, всю осень открывал новые и новые пастбища. Как и для всякого пастуха, наступало самое привольное время. Оно чувствовалось всюду и всеми. Особенно – скотиной, мирно пасущейся вдоль нескончаемого берега Оки, в дубовой роще, по сжатым нивам. Воспоминания о летних полднях, пропитанных запахом пота, отравленных укусами гнуса – особенно оттеняло это блаженство. Гусиные косяки, одиноко кружащие над болотами цапли, шумные стаи уток, холодные туманы по утрам, таинственные, как смерть, лучи вечернего солнца – всё тревожило душу чемоданным настроением. Всему, казалось, был подведен итог: и юношеским переживаниям, и военному присутствию в горах Тюрингии, и старательству, и учёбе в Литинституте, – до того момента, когда с такой осязаемой надеждой вдруг замаячила впереди земля обетованная.
«Да поминаете день исхода вашего из земли Египетския, вся дни живота вашего».
Тот день мне особенно памятен. Внешне он ничем не отличался от других дней и начался такою же утренней свежестью, густым туманом – над прудом и селом, более редким – в дубовой роще.
Соединив гавриловское и ипяковское стада, вдоль Вьюновки, кормилице и забаве детства, где-то за Нагулиным впадавшей в Гниличку, а та – в Оку, по высохшим за лето гатям, ушел в заливные луга, окруженные трясиной болот, заросших стеной осоки и тростника.
Из потрепанной пастушеской сумки достал молитвослов, затем Библию, третий раз – и всегда по-новому – шестой сезон читаемую мною. В чуткой утренней тишине значительнее казались слова бессмертной Книги.
На кусты ивняка, осоку, палую листву маслянисто садился туман, приятной свежестью опахивал лицо, мелким бисером блестел на выбившихся из-под берета волосах, бороде, холодил руки, увлажнял пожелтевшие листы Библии.
«Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, приготовь душу твою к искушению: управь сердце и будь твёрд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться напоследок. Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а человек, угодный Богу, в горниле уничижения».
Как это волновало меня!
Положив книгу на пенёк, стал ходить по излюбленному закутку, окруженному древними, как слова Сираха, дубами, по щёлкающим под ногами желудям, двадцать шагов туда и двадцать обратно – место отдыха на покосах.
«Для чего же не уклоняться? – спрашивал себя и сам же отвечал: – Чтобы не упасть. А веровать – чтобы не быть постыженным и оставленным. Страшно быть оставленным!»
«Горе сердцу расслабленному! Ибо оно не верует, и за то не будет защищено».
Вон оно что! Оказывается, причина неверия не от науки, не окружающая среда, не безбожный, развращённый мир, а расслабленное сердце!
«Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным», – прочёл дальше и опять задумался. Как всегда хотелось узнать эти Божии тайны! Порою, казалось, вот-вот, сейчас, за Относским горизонтом или в тихом Елевом долу, за лесным поворотом, на тихой, залитой полуденным солнцем поляне, среди утренней тишины, во время «умного делания» или после чтения Апокалипсиса Господь откроет хотя бы одну из них… И что же? Лишь – ощущение таинственности, какой-то всё ускользающей близости, как в «Песне Песней»: «я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл!» Так отходит всякий раз ощущение чего-то нездешнего, когда, отложив чтение, задумаешься. Блаженная тоска души! Совершенно иная, не та, что «по ту сторону добра и зла», как любил выражаться руководитель творческого семинара Владимир Ильич Амлинский. Или та, что замаячила в дни перестройки на историческом горизонте. Казалось, надвигалось что-то неотвратимое. Что именно – никто тогда толком не мог понять и объяснить. Крушение идей и всей жизни, пожалуй. Мышиная возня у кормушки власти и денег. Разделение мнений и понятий, «охота к перемене мест», телечудеса, НЛО, инопланетяне, ясновидящие и прозорливцы, лекари и шарлатаны, непрестанная пустая трескотня, волнение умов от вновь и вновь появлявшихся публикаций о лагерной жизни и «тайнах мадридского двора», экономические, экологические и всякие иные неотложные проблемы. Складывались и ломались судьбы, гибли в автокатастрофах сильные мира сего. Очерчивались контуры будущих направлений. Ничего ещё не было ясно выражено и хотя бы чуть-чуть оформлено, а уже всем хотелось только нового, только лучшего. Создавалось впечатление, что в устоявшееся болото стремительно вливалась мощная струя – и мутила. Муть эта подступала к берегам, и нельзя было угадать, во что всё это выльется. И, тем не менее, всем хотелось, чтобы непременно двинулось, непременно вылилось. И все вместе и порознь, кто как умел и понимал, спешили что-то и от кого-то спасать. Какое искушение! Какое испытание! А что делать мне? Продолжать сидеть в своём затворе? По-прежнему только читать и писать? Нельзя ли и мне найти во всём этом применение? Не настаёт ли пора? Да, но в чём и как? Так робки ещё были попытки осознания этого нового. А что, если оно не «наше» и не «для нас»?
Туман прибило к земле, и в одно мгновение огромное пространство заливных лугов засеребрилось до рези в глазах. Стадо сходилось на лежанку, удрученно вздыхая, укладывалось недалеко от закутка. Теперь можно было отдохнуть, но спать не хотелось, а хотелось читать и читать.
«Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих не испытывай», – прочёл я.
И опять задумался. Как определить, как узнать меру? Столько было сделано ошибок на этом пути, сколько получено ран! И всё оттого, как уверяет Писание, «иже не управлены суть, как листья падают, спасение же во многом совеете». Во многом, но не со многими.
«Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто… Многих ввели в заблужденея их предположения».
И это верно. О чём думаем, тем и живём. Порою и день, и два проходят под каким-нибудь сильным впечатлением. А если бы – из Писания? Закрытая Книга! Во всяком случае, для большинства.
«Упорное сердце обременено скорбями». И сколько этого упорства! Хотя определен и его источник, вот: «Зерно злого семени посеяно в сердце Адама (а значит, в каждом из нас) изначала, и сколько нечестия породило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба. Что пользы, если нам обещано бессмертие, а мы, непотребные, осуетились? Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили плохо? Обещан рай, но мы не войдём в него, потому что истаскались по местам неплодным».
«По местам неплодным» – не о политике ли речь? А может – о способах и формах нашей жизни? Взять, к примеру, матушку Варвару, «батюшку» или то «Божье чадо». Да мало ли! Об одних думать не хочется, других забыть не могу.
2
Сидел, помнится, как-то на стане за Гавриловской школой. Незаметно подошла она, как тихий ангел, держа в натруженных руках посох да бидон земляники, присела рядышком перевести дух, глянула на раскрытую книгу, спросила:
– Библия?
Кивнул, внимательно вглядываясь в это ветхое создание. Особенно удивили по-детски ясные глаза.
– В Бога, стало быть, веруешь, – ласково заключила она и, глянув куда-то вдаль, улыбнулась. – Да-а, вера – всё. Сама, почитай, только верою и дышу. И всё-то мне от неё мило – небо, облачка, берёзки, сосёнки, каждый кустик. Выйду на речку полоскать – хорошо! По четыре часа, порой, кряду Писание читаю. Одна живу. Не оторвалась бы, да дела поделать надо… Спросят, не скучно одной? Да разве я одна? Мне с имя скучно. Кабы Божие слушать хотели. Говорить-то говорят без умолку, да всё не то. Только друг дружке сердца выстужают. Соборовал у нас на Крестопоклонной батюшка, так сказывал про Матушку, Царицу Небесную, у немцев (или как их там) трём девочкам на поле явилась и говорит: «Устала, быть, я за них молиться. Так им и передайте». Нам – то есть. Всю ночь после того плакала. И теперь, как вспомню, плакать хочется. Огорчаем шибко мы Заступницу нашу. Говорю – а им про это не интересно. Про Склыпировского какого-то всё трещат. На телевизор не налюбуются. Эка невидаль! Мне один старичок ещё в первую Германскую сказывал, что придёт время, сатана придумает такой ящик, перед которым соберёт весь мир, а рога на крышу поставит. И жалко их, и помочь ничем не могу. Только и остаётся, что молиться. За полночь, бывало, встану, да так до свету и промолюсь… Выйду на волю, гляну вокруг – и так мне всё любо! Облачка, солнышко наливается, туман с реки в проулок заползает, петухи перекликаются, птицы небесные поют – хорошо! Нет, думаю, не устала Матушка за нас Бога молить и никогда не перестанет!
И глаза её засияли как у ребёнка. А сам я забыл, что я и где я. Так и хочется повторить вслед за апостолом – «в теле или вне тела». Нас словно что-то окружило, как бывало в детстве, в шалаше, когда внезапно создавался обособленный от всего прочего сказочный мир. Теперь мне кажется, что это и есть те прикосновения с вечностью или с живительным её дыханием, без чего тяжела жизнь, особенно к старости.
Взять хоть, к примеру, Бориса Павловича. Второй год он помогает мне по весне приваживать стадо. Сейчас у него горе: умер «в вине» единственный сын. И теперь всякий раз он поджидает меня по вечерам, чтобы отвести душу. За время совместного пастушества мы немного сроднились. Во всяком случае, я много знаю о нём из его красочных рассказов. Начинает он их с присказки: «Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю». И в подтверждение – история. Одна из тех, что не так давно вершила судьбами миллионов. Любил и пошутить. Бывало, спросит: «Не пора ли домой?» – «А не рано?» – «Смотря, – скаламбурит, – какая рана, а то и медведь не залижет». Но пошлости и скабрезности не любил. Была в нём чисто русская благородная душа крестьянина. Можно бы сказать, христианина, если б он так категорично не настаивал, что «Бог его обидел, и он Ему не верит». Даже смерть сына не поколебала его убеждений, а только придавила.
– Ну, как же меня Бог не обидел, – в очередной раз жаловался он мне. – Кольки нет, теперь совсем один. А только на КамАЗ устроился. Утром бы в рейс, да сосед достал накануне: выпьем. И я с полстакана выпил. Что за отрава была – не знаю. Мне ничего, а он лёг на кровать да и захрипел. Я туда, сюда. Пока соображал да бегал, он и готов. А теперь ходит, стучит, спать не даёт. Жутко аж. Ты бы помолился, зашёл.
– Как это помолился, – удивился я, – ты же не веришь?
– Ты это, знаешь, Володенька, – забормотал он, отводя налитые слезами глаза, – оно, конечно, Бог меня обидел, а всёжки я в жизнь в Ёво не ругался. Мы с тобой, как свои. И ты меня, старика, не обижай, помолись.
Что с ним было делать?
– Ладно, – говорю, – завтра крещенской воды привезу.
Успокоился.
Вот что я нашёл о нём в своём дневнике:
02.05.88 г.
Сегодня гоняли к Юрьевцу. До пятнадцати минут второго держали на берегу торфяной речушки, в которую прежде спускали отходы с химкомбината. До сих пор от воды идёт страшная вонь. Коровы подойдут, понюхают и отходят. Берёзки окидало нежной зеленью. Денёк то разгуливался, то накрапывало. По верху дамбы, идущей от конца села, вернее, от кладбища, до самого берега Оки, километров семь, тянул сильный холодный ветер. Видели зелёную ящерицу. Сидела, не пугаясь, и смотрела на меня одним глазом. Коровы всё же убежали из-за Лысёнки…
В обед Борис Павлович, сидя на бетонной плите дамбы, сказал: «Пожевать бы чего». Открыл сумку, достал батон, оставшийся от завтрака, который нам давали поутру хозяйки, покачал головой и стал сетовать на себя: «И говорю, есть нечего! A ведь когда-то, что мне этот батон? Чуть-чуть! А теперь не хочется. Вот ведь до чего дожил!»
Понемногу разоткровенничался, стал рассказывать, как жил в плену. Служил срочную в Литве. «Когда война началась, командование нас бросило. Плутал по Польше. Встретил в лесу поляка. Сенокосничал. Постояли, поглядели друг на дружку. Гляжу, рукой машет: жди, мол. Куда ушёл, не знаю, да мне всё одно уж стало – хоть какой конец. Присел и заснул. Будит. Гляжу, одёжку принёс, еду. Переоделся. Форму закопал. С неделю прятал он меня в сене, кормил. А тут как-то приехал сам не свой, оглядывается, говорит: «Пане идут, ходить надо». Ушёл, шатался, пока в плен не взяли. Порассказать, так… Потом, правда, в работники попал, за скотиной ходил. Отошёл маленько, поправился. А то ведь с меня текло. Всякие люди и среди немцев были. И у нас гадов хватает. Было: свои своих… Почище немца…»
09.05.88 г.
Пасём всё до двух… Уже распускаются листья на дубах. На берёзах листва такая яркая, что больно смотреть. Травы ещё мало. Сегодня День Победы. Борис Павлович приложился слегка, и в обед опять стал рассказывать про плен, о том, как жил у немки в работниках и как ему на ужин не давали обедешный суп, чтобы не испортил желудок.
– Сыр, масло с хлебом, чай – пожалуйста. А мяса нет. «Плёхо, – передразнил он хозяйку, – ты спайт, желюдка не работать». И всё свиньям выливали. А, помню, была у нас в колхозе татарка Сафара, трактористкой работала – уж после войны дело было, – дали ей на трудодни ведро баранины, она притащила хозяйке: «Манья, на баранин. Нас Бог не велит такой мяса есть: када убивал, нага ни вязал. Нельзя». И не ела. Хозяйка даст ей ведро мочёных яблок, та и рада».
«Удивительное дело, – подумал я. – Трактористкой сделали, колхозницей тоже, поди, и комсомолкой была, а баранину не ест».
И тут мне припоминается Пасха, как мы ходили собирать яйца, Христа славили это в безбожном селении. И не было ни одного дома, где бы нам чего-нибудь в тот день не дали. Не исключая и парторга, и комсорга, и профорга…
– Вот ведь что жизнь-то была, – прерывает мои мысли Борис Павлович. – Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю.
– Заладил своё, Фома! Знаешь пословицу: не ищи в селе, а ищи в себе?
– Нет, ты погоди, ты послушай сперва, что я тебе скажу. Как же меня Бог не обидел, когда я всю жизнь, сызмальства хужее последнего нищего, концы с концами свести не мог. С плена на стройку угнали вину перед Родиной искупать. Домой воротился, считай, круглый сирота: тятя до войны в лагерях сгинул, мать в войну тифом скосило. Хозяйку-покойницу взял, считай что в одних трусах. Порассказать, так… Помню, сенокосничали раз, так умотались, ни я, ни она косы нести не смогли, так в кустах и бросили. Домой притащились, есть нечего. Сама морковки надергала, ополоснула в кадке – вся еда! Я в плену лучше жил! – возмущённо тряхнул он головой. – А тут ещё налогами обложили. Сорок килограмм мяса, шерсти, яиц, масла, картошки да семьсот десять рублей – всё им дай! Зажили мы тут, было, при Булганине, да нанесло Хруща. И мясо пропало. Или двух овец, или одну свинью держи. Это что, справедливо? А того не понимают, будь у меня лишняя овца, куда я её понесу? На рынок. Эх, что измывались над людьми-то! Свои! Вот и суди, как же меня Бог не обидел? Нет, ты погоди, – остановливал опять меня. – Ты послушай сперва. Лошадей я в колхозе пас, так раз татары жеребёнка-трёхлетка украли. На собрании свои: тыщу рублей пусть платит! Хорошо, счетовод выручил. Во мужик был! Пока матом не выругается, не может начать говорить… «И-и… И-и… Так вашу перетак…» И пошёл: «Мы, – говорит, – с его тыщу возьмём, а завтра татарину за три сотни отдадим? Моё предложение – взять инвентарную стоимость». Тоже, значит, триста. Проголосовали. А то бы… Вот ведь что жизнь-то, Володенька, была. Как послабили малость, так я дом поскорее продал и сюда, к городу поближе. Пусть они там экспериментируют. Теперь, сказывали, ни колхоза, ни села. Всё развалили.
И подобные истории почти каждый день весь месяц нашей совместной работы. И сколько не возражал я ему, при чём тут Бог, он удивлённо восклицал: «Как?!» – и начинал другую историю. Ни Богу он не молился, ни в церковь не ходил, и хотя, как уверял, был Им разобижен, весь годовой круг жизни, тем не менее, определял церковными праздниками. Картошку сажал после Троицы, чтоб зря в земле не зябла. После Петрова дня сенокосничал. В Духов день не работал, на Страстной в рот вина не брал, на Пасху христосовался с каждым встречным, а по воскресеньям запрещал хозяйке стирать и вывешивать бельё. «Что ты! – отвечал на мой удивлённый вопрос. – Острамят на всё село!» Никакие мои доводы не побудили его уступить ни пяди. «Вы, – говорю, – такие упрямые, потому и Сталина пересидели». Улыбается, хотя к Сталину у него отношение особое – горбовое молчание.
3
В то лето произошло ещё одно памятное событие.
Среди сезона, совершенно неожиданно, жену на «скорой» отправил ночью в больницу с сильным токсикозом. Родителей моих не было рядом, и дети целую неделю жили одни в двухкомнатной квартире под присмотром старшенькой, восьмилетней Саши.
Не без волнения каждое утро проносил я через тихую комнату велосипед с балкона. Будил Сашу, чтоб закрылась. И всю дорогу, и всё время пастьбы мысли мои были дома: «Как там они?»
Домой возвращался с тою же тревогой в сердце. В пятый день решил проведать детей в обед: скотина обычно лежала на стане часа по четыре. Бывало, снималась и раньше, но я надеялся на русский авось, и после дойки поспешил к дому.
Однако на подъезде словно что стукнуло в сердце – все окна квартиры были настежь!
Влетаю на второй этаж пятиэтажки, дверь нараспашку. Вхожу – и Боже ж ты мой! – кого тут только нет! И откуда только понабежали эти подружки! Шум, гам, заедающая пластинка, шесть ручонок азартно ботают по клавишам фортепьяно. Младшенькая Даша, в одной распашонке, в собственной лужице спит на полу. Тюль парусит и взвивается к потолку от сквозняка, вызывая общий восторг.
Все замерли сразу – так, видимо, грозен был мой вид. Подружки быстренько потекли в дверь, а я не знал, за что в первую очередь взяться – за ремень или затворить окна.
Подойдя к Даше, услышал хрип. Ребёнок задыхался и весь горел. Поднял её, отнёс в кроватку, поставил градусник. Затем закрыл окна, попутно выговаривая старшей. Но от страха она лишилась способности соображать и, вытаращив глаза и поджав губы, смотрела исподлобья неподвижным взглядом. Маленькое существо беспомощно хрипело в кроватке. Градусник показал тридцать девять и две. Я был в отчаянии.
– Как тебе не стыдно, Саша! Как тебе не совестно! Я так на тебя надеялся, а ты! Ведь Даша может умереть!
Варя, Никита, Маша сгрудились у кроватки, ткнув головки меж палочек. При моих словах они все разом посмотрели на меня и трёхлетний Никита, безмятежно глянув, спросил:
– Папенька, а она в рай попадет?
Меня взорвало.
– Что?! Я вам сейчас покажу рай! – и я заходил по комнате в поисках ремня. – В рай! Она-то попадёт! А вы куда попадёте? Вы, убийцы! Что вы ответите Богу, когда спросит?
– А мы… мы её не били… мы не убивали, папенька… она сама… – залепетали испуганные голоса.
– Как же не убивали, когда почти что убили таким отношением! Открыли все окна, а ребёнка, чтобы не возиться с ползунками, бросили на пол, почти на бетон, на этот линолеум, это же всё равно, что убили!
Ремень не находился, я начал остывать. К тому же тревога за судьбу дочери, не на шутку испуганные лица детей – всё как-то разом придавило беспомощностью.
– Эх, Саша, я так на тебя надеялся, а ты!.. – выговорил я с горечью, едва сдерживая слёзы. Глянул на часы, пора было ехать: не дай Бог ещё забредут на совхозный клевер. – Я думал, ты большая, понимаешь… А вы! Вы же в Бога верите, в церковь ходите! Как же вы так?.. А что с маменькой будет, когда узнает? Не жаль вам её? А мне каково? С чем я уеду? Что у вас тут опять будет?
Слезы выступили на моих глазах. Саша заметила.
– Папенька, мы больше не будем окна открывать…
Я задумался.
– Вот что, – наконец, решил, – идите сюда.
Отпер ключом кабинет, маленькую клетушку, в которой помещался слева от окна во всю стену диван, напротив, через метр, письменный стол, рядом стеклянный, но уже без стёкол шкаф с книгами. Такой же шкаф, только другого цвета, стоял слева от двери на тумбочке, дверцы которой, когда открывались, почти касались спинки дивана. На шкафу – иконы, лампадка. Самая большая и древняя икона – Рождество Пресвятой Богородицы, в медном, позеленевшем окладе (память от Новской идиллии, о чём речь впереди), ещё несколько обычных бумажных иконок, и главная святыня, хранительница семьи и в родах помощница – Фёдоровская.
– Становитесь рядом со мной на колени. Матушка, Царица Небесная, ты видишь, какое у нас горе, а у меня вдвойне – от непослушных детей. Кого нам просить, как ни Тебя? Ты наша Помощница, наша Заступница. Помоги. И детки обещают вести себя хорошо. Обещаете?
– Да-а… Мы больше не будем, папенька…
– Смотрите. Божией Матери обещание дали. Кланяемся.
И мы поклонились до земли. Затем я достал икону, и все по очереди приложились. Присмирели, притихли, даже лица переменились.
И всё же я уехал с тяжестью на сердце. Беспокоила больная дочь. Хотя и протёр тельце разбавленным спиртом и попытался влить «летической смеси», ребёнка только вырвало. А вместо плача – хрип.
На стане же всё было благополучно. Коровы спокойно лежали меж высоких сосен, жуя серпу, обмахивая ушами от глаз мух. Пронзительно стрекотали кузнечики, купались в дорожной пыли воробьи. Всё было так да не так. Ни сидеть, ни стоять, ни тем более читать я не мог, а всё ходил и ходил, подавленный своими переживаниями. Больной ребёнок, непослушные дети, жена в больнице. Надо быть дома и не могу. До вечера ещё ой сколько! И всё это время жить с этакой мукою на сердце? А эти лежат и жуют. И никому нет до меня дела. Меня разбирала досада.
Наконец, не выдержал, стал подымать стадо прежде времени. Кныжась и удручённо вздыхая, послушно-лениво, безропотно стали подыматься, потягиваться, иные пускать светлые струи, «минировать» лежанку. Ничто, казалось, не могло выбить их из привычного ритма жизни. Послушание их немного усовестило, подавив досаду. «Они тут при чем?»
В лесу, через который лениво брело стадо к месту выгона, взмолился. Но что это была за молитва! Никогда прежде да и потом я так не молился! Так бестолково-неистово! Всё моё тягостное чувство безысходности вылилось в этих бессвязных словах. Я не просил, я требовал чуда. И даже грозил тем, что непременно возропщу, если не получу просимого. Не знаю, сколько времени молился таким образом, заливаясь слезами, ничего не видя и не слыша, только в какой-то миг глубокая тишина и отрада вдруг сошли в моё сердце. Ад души, подавленной горем и страданием, бесследно исчез. А мир вокруг преобразился, как бывало на Новских выселках, на закате, когда под вечер, выйдя из баньки, на мгновение застывал в чуткой предсумеречной тишине вишнёвого сада, охваченного пожаром заходящего за далёкий горизонт неправдоподобно огромного солнца.
Так хорошо мне стало, так благостно! И главное – какая-то внутренняя убежденность, что услышан. Молитва как началась, так и закончилась сама, и никакие потуги возобновить её не имели успеха. Не о чём было больше просить? Господь дал всё сразу. Лишь чувство благодарности переполняло душу. И мир этот, казалось, изливался на всё: на молоденькую дубовую рощу, на просеку ЛЭП, с вечно потрескивающими проводами, на небо, зелень и стадо, улегшееся под насыпью высохшего отстойника.
Чувство это сохранялось до вечера, и ещё долго потом я жил воспоминанием о нём. Правда, на подъезде к дому заскочило как бы со стороны: «Приедешь, а там…»
Но что же ожидало – там?
Ещё издали увидел я на балконе жену. Спокойно и аккуратно, привычными чёткими движениями развешивала она ползунки и пелёнки.
«Неужто выздоровела?»
Оказалось, сегодня её перевели из роддома с сердечным приступом в другую больницу: переволновалась от предложения врача прервать беременность, а после успокоительного укола ещё больше расстроилась, думая, что её хотят усыпить и против воли сделать аборт. Зайдёт же такое в голову! Всё, в общем, произошло сегодня, в пятницу, а после обеда её отпустили на выходные домой. Но это ещё не всё. Представьте моё удивление, когда не только никаких хрипов и температуры, даже признаков недавней болезни у Даши не было! Совершенно здоровое, весёлое дитя сидело в кроватке, а Галя не хотела верить моему рассказу и уверению детей, что буквально в обед ребёнок был при смерти.
– Папенька, она хрипела-хрипела, – трещала Саша, – и перестала. Я думала, она умерла, испугалась, сначала не шла, а потом пошла, а она спит и вся вспотела. Я её переодела. Маменька, правда. Мы сказки читали, а она «э-э» говорит. Правда…
– Hy-y?!. Ну-у?! – то ли удивляясь, то ли не веря, приговаривала с улыбкой жена.
А мы наперебой уверяли её. И на сердце у меня было радостно, как на Пасху.