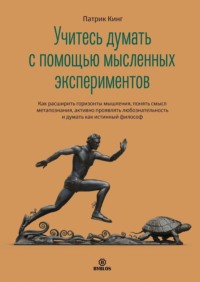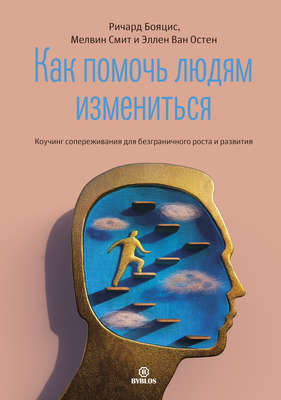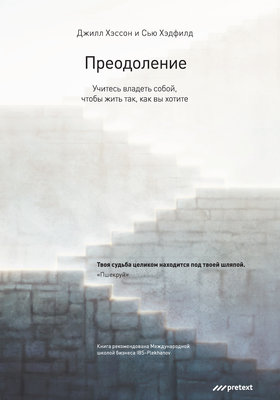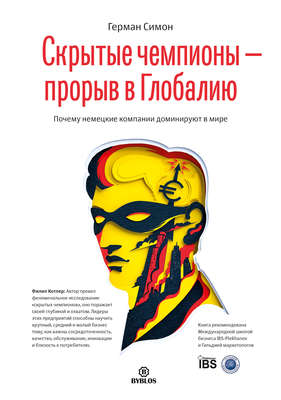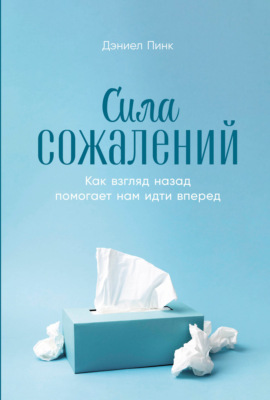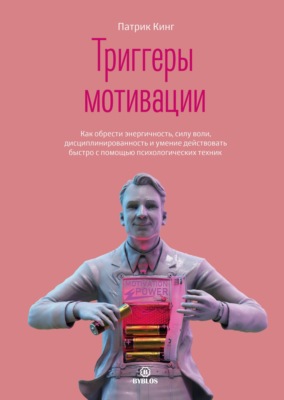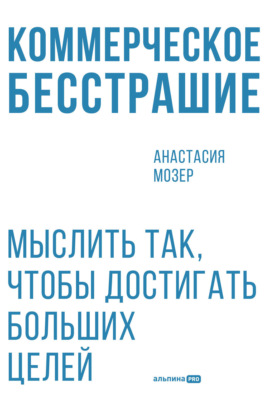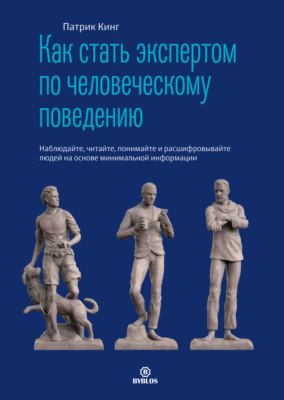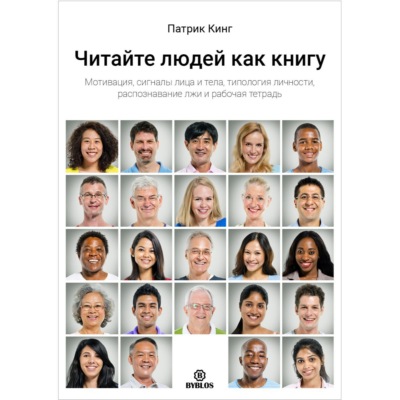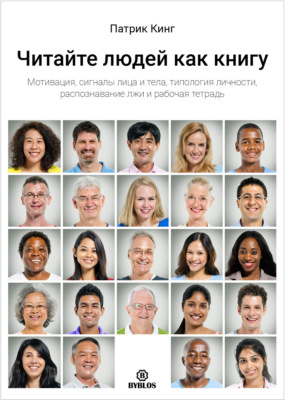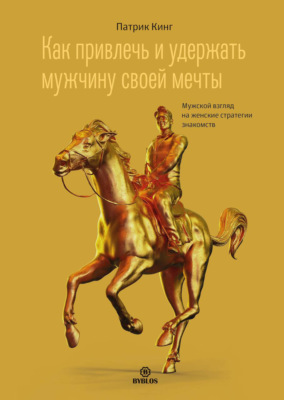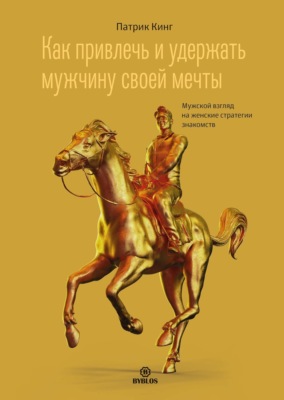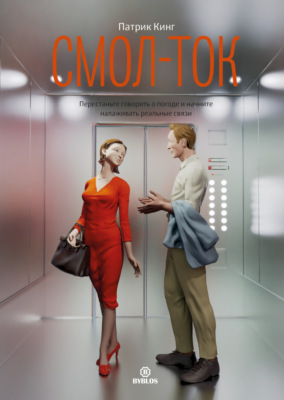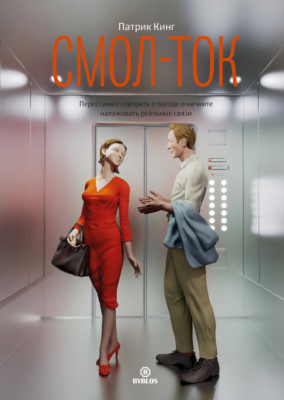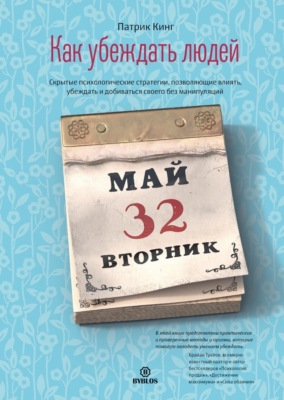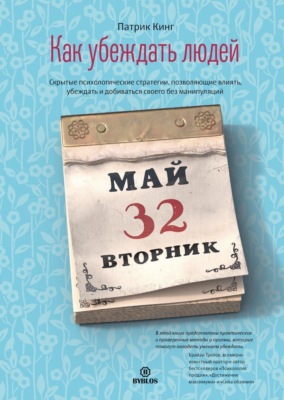Kitobni o'qish: «Учитесь думать с помощью мысленных экспериментов. Как расширить горизонты мышления, понять смысл метапознания, активно проявлять любознательность и думать как истинный философ», sahifa 2
Проблема вагонетки
Давайте рассмотрим по видимости незатейливую гипотетическую ситуацию. Вы стоите и смотрите, как поезд несется по рельсам, к которым привязаны пять человек. Они обязательно погибнут, если не остановить поезд. Если же вы дернете рычаг, состав переедет на другой путь, и тогда погибнет только один человек, который там находится. Итак, если вы ничего не сделаете, умрут все пятеро; если сделаете – погибнет один человек. Вопрос: вы дернете рычаг? Почему да или почему нет?
Далее, задача не в том, чтобы заявить: «Но ведь этого в действительности не произойдет, так какая разница?» Перед нами очевидно надуманная ситуация. Однако она побуждает нас рассуждать нестандартно и внимательнее присмотреться к нашим ментальным моделям «по умолчанию». Данный эксперимент предлагает подискутировать, выйдя за рамки сиюминутного, непосредственного и конкретного.
Всего лишь задав вопрос, вы стали участником одного из классических философских мысленных экспериментов, который называется «Проблема вагонетки». Возможно, он наведет вас на совершенно новые мысли разного рода, активируя разнообразные модели размышления точно так же, как спортсмен тренирует разные мышцы тела.
Например, вы спросите себя: если исходить из того, что даже одна жизнь важна, разве это не предполагает, что пять жизней важнее в пять раз? Здесь вы становитесь на позиции утилитаризма. Возможно, вы верите, что большинство людей поведут себя так, чтобы свести к минимуму негативные последствия, если у них будет такой шанс; тогда вы будете исходить из своих знаний о нормальном поведении людей (дедуктивное мышление). Или ваш вопрос прозвучит так: правда ли, что недеяние (созерцательная пассивность) в данном случае полностью освобождает человека от вины (тогда вы размышляете с позиций философии морали).
Но вы можете спросить себя: а что, если бы тот единственный человек был вашим ребенком или родителем? Что, если бы вам пришлось реально толкнуть человека под поезд, чтобы остановить последний? Что, если бы у всех пятерых был рак, и они все равно умерли бы в течение года? Что, если бы это были пять детей, а единственный человек на другом пути был новым Альбертом Эйнштейном или другим гением? Что, если бы вы имели возможность вместо них пожертвовать собой? Какую мольбу вы бы вознесли на месте того одного человека? Вот как выглядит на практике сдвиг перспективы и видения ситуации.
Если вы задаете себе вопрос: не этичнее ли, причем намного, спасти члена семьи вместо незнакомца, то, значит, вы уже активно ищете и оцениваете доводы в пользу данного аргумента. Возможно, вы еще раз обдумаете ситуацию в целом и решите, что поступить плохо здесь совершенно нормально, если это предотвратит еще худший исход. Мои поздравления – вы сформулировали гипотезу. Теперь можно «протестировать» эту гипотезу (но не мнение), спросив, подлежит ли наказанию по закону человек, дернувший за рычаг. Вы можете спрогнозировать, что случится, если бы в реальном мире это было действительно так… и так далее, и тому подобное.
Как видите, одна гипотетическая ситуация способна вызвать к жизни целую новую вселенную разнонаправленного критического мышления.
По сути, люди годами обсуждают «Проблему вагонетки», пытаясь понять, что она говорит о наших мыслях по поводу виновности, ценности человеческой жизни, этичного поведения и психологии, ограничений утилитарного подхода в философии и многих других предметов. Было выдумано немало вариантов – к примеру, что, если бы тот один человек был мерзавцем?
Хотя подобные мысленные эксперименты могут казаться поверхностными (а возможно, и тревожащими душу), они служат определенной цели. Философы пользуются ими, чтобы разобраться, какие убеждения мы полагаем истинными и, как результат, какими знаниями о себе и окружающем мире владеем. Порой этот процесс кажется странным или неприятным. Но порой с его помощью мы раздвигаем границы мышления, открывая для себя новые, совершенно иные перспективы.
Короче говоря, мыслительные эксперименты учат нас думать.
В следующих главах мы погрузимся в самые знаменательные эксперименты в истории и увидим их поразительные результаты. Мы познакомимся с философами античности и современности, а также с физиками и великими мыслителями мира. Многие классические мысленные эксперименты оказали глубинное воздействие на наше мышление о себе в современном мире, так что по меньшей мере знание о них обогатит ваши представления о философском пути человечества длиной в столетия.
Кот-зомби
Начнем с известного, но часто неверно понимаемого мысленного эксперимента под названием «Кот Шредингера». Чтобы понять суть того, что пытался донести до нас физик Эрвин Шредингер, нужны определенные знания о положении дел в области теоретической физики в те времена, не забыв о Копенгагенской интерпретации. Нильс Бор и Вернер Гейзенберг предложили данное толкование квантовой механики в 1920-е годы, воспользовавшись им для объяснения и концептуализации некоторых странных результатов, полученных в ходе экспериментов в этой области. Согласно Копенгагенской интерпретации, физические системы демонстрируют так называемый «коллапс волновой функции», что означает просто-напросто следующее: свойства физических систем обладают определенностью только в момент измерений, а квантовая механика способна показать только вероятности определенного результата. Важно отметить, что Копенгагенская интерпретация – это всего лишь одно из многих толкований квантовой теории, каждое из которых имеет собственных сторонников и критиков. И «Кот Шредингера» – не исключение.
Вот суть этого мысленного эксперимента. Представьте, что кота на час посадили в сейф. Внутри сейфа находится счетчик Гейгера (измеряющий уровень радиации), небольшой контейнер с радиоактивным материалом, молоточек и маленькая колба с синильной кислотой, которая, разбившись, убьет кота.
Радиоактивный материал размещен таким образом, что с вероятностью 50 процентов по прошествии часа один атом вещества распадется (нам сейчас неважно, как происходит распад радиоактивных веществ; достаточно знать, что радиоактивные элементы нестабильны и испускают частицы, то есть обладают свойством радиоактивности). Установка следующая: если атом распадается, счетчик Гейгера это регистрирует, молоточек падает, колба разбивается, кот погибает.
Согласно Шредингеру, на основании Копенгагенской интерпретации можно утверждать, что кот в буквальном смысле и жив, и мертв до того, как вы не откроете сейф и не проверите данное утверждение. Иными словами, он существует в некоем странном состоянии, одновременно и живя, и умирая (оживший мертвец, зомби), и только открывание сейфа устраняет неопределенность.
Звучит странно? В том-то и вся суть! Шредингер использовал данный мысленный эксперимент, чтобы подчеркнуть, как неопределенность на субатомном уровне способна обернуться странными последствиями для крупных объектов – например, кошек. Этот эксперимент составляет лишь малую часть предмета масштабных и сложных дискуссий по теоретической физике, которые выходят за рамки темы нашей книги. Однако, даже не разбираясь в деталях, можно видеть, в чем полезность такого эксперимента.
В рамках данного раздела физики измерение самого феномена было под вопросом, поскольку речь даже не шла о нормальных условиях экспериментирования. Пытаясь разобраться в таких вещах, как распределение вероятностей, имеет ли свет корпускулярную или волновую природу, что входит в рамки измерения и так далее, мы вынуждены прибегать к мысленным экспериментам.
Итак, Шредингер, чтобы выразить свою точку зрения, прибегнул к чисто гипотетической ситуации вместо эксперимента в реальном мире. Он воспользовался посылкой общепринятой модели и задался вопросом: «Что произойдет, если мы применим аналогичный метод мышления к крупным объектам?» Впоследствии этот сценарий, подобно «Проблеме вагонетки», вдохновил на проведение многочисленных мысленных экспериментов. Действительно, внушительная часть исследований в области теоретической физики осуществляется в абстрактном, чисто математическом пространстве, весьма далеком от лабораторного.
Чему же может научить данный мысленный эксперимент простого обывателя в части критического мышления? Нередко в нашей аргументации или убеждениях можно обнаружить немало узких мест, если мы просто доведем наши модели до логического конца. Иными словами, мы пользуемся мысленными экспериментами, чтобы в полной мере учесть все последствия нашего видения: то есть, если имеет место то-то и то-то, как это отразится на всем прочем? В случае Шредингера, явное неправдоподобие предполагаемого исхода являлось узким местом эксперимента. Рассматривая какой-либо аргумент или точку зрения, спросите себя: «Каким бы стал мир, если бы моя теория оказалась верна? Мир действительно таков? Что предполагает мой эксперимент? Его последствия желательны/истинны/логичны? Если нет, то опровергает ли это мою изначальную аргументацию?»
Может показаться, что данный постулат воплощает в себе одно из главных критических замечаний в адрес философской науки, а именно то, что она представляет собой беспорядочный набор лишенных логики мыслей, не имеющих ни реального завершения, ни истинной цели. И все же этот нескончаемый анализ и понукание ленивого мыслительного аппарата имеет реальную цель: обогатить каждого из нас.