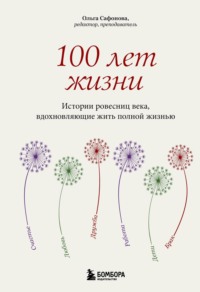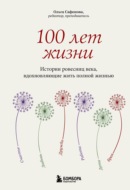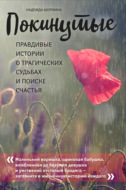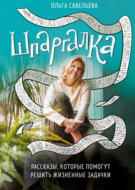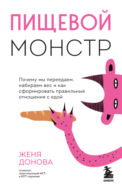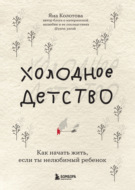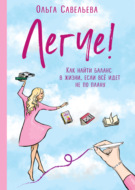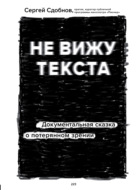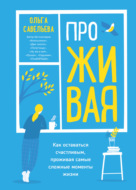Kitobni o'qish: «100 лет жизни. Истории ровесниц века, вдохновляющие жить полной жизнью», sahifa 3
Юра жену очень любил, но выяснять, что произошло, не захотел. Мне надо было остаться, поговорить, но вмес то этого мы сели в автобус и уехали. Так до сих пор и не знаем, изменила она ему или нет. И она не захотела мириться, не стала с ним жить. У него остались две девки, две дочки, мои внучки. Они вроде как оскорбленные, что отец их бросил, и со мной тоже перестали общаться.
Думаю, что она изменяла. У невестки ухажеров местных тьма была. Она как в город уехала, быстро замуж выскочила, детей родила. Может, встретилась с какой-нибудь старой любовью в родительском доме. Но в семье всякое бывает, разобраться надо было, поговорить. Сын очень переживал и больше не женился. А дом я все равно решила внучкам оставить, хоть они и в обиде на нашу семью.
Правда, есть еще ребенок у младшего, Алексея. Когда сын учился в десятом классе, он встречался с одноклассницей. Я не знала, насколько близкие у них были отношения. А потом ко мне пришла ее мать и сообщила, что ее дочь от моего сына беременна. Для меня это было непостижимо: мы не имели права жениться, пока у нас для этого не было средств. И вообще, как она могла позволить себе вступать в отношения в таком молодом возрасте? Я посоветовала им сделать аборт и, более того, дала на него денег. Деньги они взяли, но аборт не сделали. Девушка бросила школу, уехала куда-то к родственникам и там родила. Больше о ней мы ничего не слышали. Она приехала к матери на похороны и зашла ко мне. Сына на тот момент уже не было в живых. Предложила помощь, но я не считала себя вправе ее о чем-то просить. Она оставила свой адрес, я не взяла. У нее родилась дочка, они живут в Америке и очень богаты.
«Жизнь – это путь. Мне осталось пройти несколько шагов»
– Н е устали так долго жить?
– Мне кажется, всем людям хочется жить. И я себя успокаиваю: сыта, в тепле, никого не беспокою – ну и хорошо! У меня есть соседка, учительница, она ослепла и оглохла, к ней приходят раз в две недели, так она живет хуже. Вот вы ко мне пришли, мы поговорили – мне уже хорошо, как меду наелась… Нужно верить в то, что надо жить. Я себя постоянно успокаиваю, уговариваю не нервничать. Я была счастлива, жила не хуже других. Вот сегодня рассматривала фотографии: в молодости я была не так безобразна, как сейчас. Красила брови, делала прическу. А губы не красила. Разговариваю каждый день с Виктором, он меня слушает, глядит с портрета. Когда я вру или нехорошо говорю, портрет краснеет.
– О чем разговариваете?
– Советуюсь с ним, спрашиваю, как мне поступить.
Долгожительница показывает снимки. В сто лет она отлично видит без очков!
– Такие вот красивые резные полочки сын делал… Не надо было его в летчики отдавать, нужно было заметить, что он художник. Сколько картин навешал – это все он делал.
Сейчас я живу не хуже других, считаю, что нужно довольствоваться тем, что есть. Телевизор у меня есть – включаю, когда хочу, мне никто не мешает, не запрещает. Единственное, на жену внука легла большая нагрузка – за мной ухаживать, а она мне вроде как никто, не кровная родственница.
– Удивительно, что близкие люди о вас не заботятся, а заботится, по сути, чужой человек.
– Да. Меня успокаивает то, что хотя бы третья часть денег от продажи дома ей достанется. Но чувствую, что терпение у нее кончается.
– О чем вы сейчас мечтаете?
– О новой кровати с хорошим матрасом. И чтобы социальные работники ходили ко мне в выходные: в субботу и воскресенье я сижу голодная. И чтобы мыши меня не донимали. Еще мечтаю, чтобы жена племянника меня забрала к себе в Москву. Здесь у меня тяжелое положение, дом наследуют трое: гражданская жена внука и две внучки. И они хотят его поскорей продать. А у меня мечта – уехать отсюда. Надежды мало, конечно, но вдруг… Мне тошно оттого, что они ждут моей смерти, чтобы разделить дом.
Жизнь – это путь. Мне осталось пройти несколько шагов. А о смерти думать бесполезно, она неизбежна и совсем скоро.
– Что дает силы жить?
– Понимаете, когда счастлив человек, мне кажется, уже жить можно. Вот я сейчас живу одна, а счастлива! Хотя мне тяжело. Я встала, чтобы покушать, разогрела обед, заварила кашу, подготовила все. Какого труда мне это стоит… Я ставлю ногу, а она подворачивается, вот-вот упаду. А счастлива я потому, что еще жива и никому не мешаю. И телевизор у меня есть, и сытая. Живая – и слава тебе господи. И ты береги себя, вовремя кушай, одевайся потеплее. А лечусь я только с помощью телевизора – там говорят, что пить от давления. Зарядкой я не занималась, спортом тоже, только вот авиационным. Мне было не до этого: я очень много работала.
Со своими частями тела я разговариваю: если что-то заболело, то глажу это место и успокаиваю. Не спится – принимаю снотворное. Закрываю дверь и говорю себе: завтра я не умру. А если и умру, то люди меня найдут, увидят через окошко.
Как всегда, прощаясь с долгожителями, я стараюсь найти более подходящие слова, чем «до свидания». Сказать «до свидания» человеку, который собирается отпраздновать 101-й день рождения и живет в добрых 180 километрах от тебя, кажется мне неуместным. Вера улыбается. Она, видимо, угадала мои мысли, потому что говорит:
– Если мы хотим встретиться снова, нам нужно поторопиться.
Когда ты молод, можешь что-то планировать на пять или десять лет. Затем становишься старше и живешь одним годом, месяцем или, наконец, одним днем, как бабушка Вера.
Некоторое время мы молча смотрим друг на друга, затем она сжимает мои руки.
– Ты могла бы мне звонить иногда? – спрашивает бабушка Вера. – Не в следующем году или месяце, а, скажем, через неделю?
Я киваю в ответ, обнимаю бабушку, и мы прощаемся.
Оксана Булавская, клинический психолог
Вэтой истории много интересных моментов и неоднозначности. У бабушки Веры уникальная способность осознанно брать на себя ответственность за свою жизнь и за все происходящее в ней. Случилось не просто абы какое событие, а именно то, что она хотела: «Я живу одна, и я счастлива, я никому не мешаю». При этом Вера любит людей, они ей интересны, она может поговорить по душам и позаботиться о незнакомом человеке. Одиночество не делает ее замкнутой, в ней нет асоциальности или угрюмости, свойственной одиноким людям. Вера осознает свои потребности даже в оценке подарков. Она вежливо, но четко дает понять, что нужно, а что – лишнее: «Ой, куда мне полотенчики?» Вера вроде бы не обижает, но для себя решает: это беру, а это нет, так как мне не нужно. За таким поведением прослеживается очень честное отношение в первую очередь к самой себе, к своему мнению, а значит, выбор в пользу ответственности за свою жизнь.
Родители заложили ей хорошее здоровье, и речь не только о генетике. У нее, по всей видимости, был хорошо образованный отец. Питание по часам, умный выборочный пост. Вполне возможно, что генетические особенности требовали именно такого отношения к ее организму, и Вере это пошло на пользу. Можно сказать, родители сформировали у нее представление о правильном питании с некоторым эффектом плацебо. Так, например, она верит, что для нее очень полезен печеный лук, и активно его ест. Вера не говорит, что безумно любила отца, но ясно оценивает то лучшее, что он смог ей дать. А он дал детям не только хорошее воспитание и задатки крепкого здоровья и здоровых привычек, но смог обеспечить качественное высшее образование и поддерживал их стремление к учебе.
Жизненная история Веры – это эффектная проверка реальности. Так в детстве она пробовала яблоки: вдруг ворованные окажутся вкуснее? Попробовала, выплюнула: поняла, что они по-прежнему кислые. Потом сама же над этим посмеялась. Честность по отношению к себе, сдобренная природным чувством юмора, – серьезный бонус в жизни бабушки Веры.
Вера поддерживала отношения с братьями и сестрами. Родители отправляли ее как младшую к старшим, не возлагая на нее свои надежды, а доверяя ей и предоставляя возможность развиваться самостоятельно. Отец находил в своей нелегкой жизни время и силы возить ее в другую деревню на телеге. А ведь ребенку достаточно всего 15 минут в день искреннего неоценивающего внимания родителя, чтобы не только почувствовать любовь и свою нужность, но и, как следствие, осознавать свое детство счастливым. Благодаря этому у Веры сформировалось ощущение: я была единственной, я была главной, я была лучшей. И это дало ей опору на всю оставшуюся жизнь. Она верит в себя, у нее блестящий аттестат, у нее есть поддержка родителей.
Вера очень бережно относится к воспоминаниям о муже, к моментам и случайностям, связанным с ним. Она прекрасно помнит, может, даже несколько идеализирует отношения с супругом. Она понимает, что самое ценное, что он мог ей дать, – это любовь, поэтому оценивает свою супружескую жизнь как самый счастливый период в жизни. Она живет в семье, где любима сама и где может дарить свою заботу и любовь детям и супругу.
Трагедия – потеря детей и мужа – не сломила Веру. Такова ее жизнь. Она приняла и нашла в себе силы и желание жить дальше. Мне нравится утверждение, что наша жизнь состоит на 10 % из того, что с нами происходит, и на 90 % – из того, как мы к этому относимся. В своем представлении бабушка Вера живет по-прежнему счастливо. И она испытывает важное осознание чувства нужности: я была нужна!
На мой взгляд, Вера, как другие престарелые люди, отчаянно нуждается в близких и семье – и она ищет эту семью. Она уже очень старенькая. Ей тяжело и все сложнее жить без помощи, она одинока, ей требуются забота и поддержка неравнодушных людей.
Бабушка Антонина
РОДИЛАСЬ 14 МАРТА 1922 ГОДА В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ17.
Хотела бы еще сто лет прожить!
В больницу, где лежит долгожительница, мы едем вместе с волонтером, тоже Ольгой. Я рада, что она взяла меня с собой: Ольга давно знакома с бабушкой, а значит, больше шансов, что разговор действительно будет по душам.
Когда мы встречаемся с Ольгой, я удивляюсь, насколько нарядно она выглядит: голубое платье, туфли, прическа, маникюр. В руках – букет полевых цветов. Я делаю комплимент и интересуюсь, в связи с чем такая красота.
– В этой сельской больнице лежат в основном старички и инвалиды. В их жизни так мало впечатлений, некоторые уже и вовсе не выходят на улицу. Приезд волонтеров для них настоящий праздник, это как окно в мир. Они с такой радостью разглядывают мой наряд, вдыхают аромат духов. Им интересно, что происходит в жизни, в природе, поэтому я стараюсь всегда привозить им цветы.
Бабушки действительно встречают нас с большой радостью. Знакомятся со мной и расспрашивают Ольгу, как у нее дела. Тем временем мы начинаем с Антониной говорить о ее детстве.
– Я в восьми километрах от Рогачево родилась, в деревне Аревское. Дом у нас был деревянный, пятистенок.
Большой, красивый. А сейчас жить-то некому. Приезжайте и живите.
Антонина из тех людей, жизнь которых можно охарактеризовать пословицей «Где родился, там и пригодился». Часто людям кажется, что они находятся не там, где им следовало быть. Они испытывают недовольство или неудовлетворенность, постоянно чего-то ищут, меняют города и страны, но не находят. Однако каждый человек уникален, и его собственное место в мире может быть не за тридевять земель, а гораздо ближе. Например, там, где он находится прямо сейчас…
«Три года подряд только об одном и думали: как бы поесть»
– Детство было трудное, но в то же время раскованное и свободное. Оно выпало на период НЭПа. Крестьяне имели свою землю, крепкие хозяйства: добрую лошадку, пару коров. Строили хорошие дома. Детей в каждой семье заводили много, мы очень дружили – и мальчики, и девочки – и были предоставлены, можно сказать, самим себе. Мы не устраивали ни потасовок, ни драк, собирались и играли в самые разные детские игры, очень похожие на спорт. «Ручеек», «Гори-гори ясно». Потом начались школьные годы.
В первый год, 1930-й, всего было в изобилии, но уже организовывались колхозы. Не все благоприятно приняли эту организацию. Очень много молодых семей уехали в город. Был большой отток рабочей силы. Механизации никакой, тяжелый ручной труд. И сразу три голодных неурожайных года: 31-й, 32-й, 33-й. Хоть я и маленькая была, восемь лет, а понимала, что говорят взрослые. Осенью сеяли, всходы прекрасные, но весной на квадратный метр один колосок. И так три года подряд. Страшный голод.
Растущие организмы хотят есть постоянно. В лес пойдешь, земляники наберешь – витаминчики. Чего мы только не ели, Оля! Пойдем на поле, наберем хвоща, очис тим стебельки и едим. Даже какие-то сорняки, калган копали. А у него на корнях белые горошинки, сладкие. Мы три года не видели не то что кондитерских изделий – даже хлеба. И вот наедались этими белыми горошинами до того, что живот вздувался, и шли домой. Нас спрашивали: «Что, опять гороха наелись?» Уже когда взрослая стала, узнала, что эти горошины являются лекарственным средством – они вызывают у женщин выкидыш. А мы ели их, потому что они сладкие были. Дети есть дети. Сады были у всех: заберемся на вишню, смолу сдираем, и как ириску, жуем. Три года подряд только об одном и думали: как бы поесть. А потом 34-й год наступил, и урожай собрали неимоверный. На трудодни18 нам выдали много зерна, и мы с удовольствием ели заварной ржаной хлеб. Досыта!
«Хоть и бедно жили, но весело»
– Лучшим временем в детстве были школьные годы. Хоть и бедно жили, но весело! Мы тогда веселились без какого-то принуждения: свободно, открыто. Никакого хамства не было, ходили ватагой с тремя гармонями! Кадриль танцевали, вальсы, полечку. С вечера до утра. Я мечтала закончить институт и начать работать. С детства, с самого раннего, хотела быть учителем. Отработала с детьми тридцать семь лет. Я приходила к детям и про все забывала. Дети – это моя помощь. Я очень любила детей, и они мне платили тем же.
«В нас воспитывали трудолюбие, скромность и патриотизм»
– Какими были предвоенные годы?
– В 35-м году в колхоз приехал первый колесный трактор. Сиденье открытое, колеса, бак, выхлопная труба! Все население, даже старики с бородами, прибежали его смотреть. Щупали, охали. Поехал пахать. Все меряют глубину захвата и удивляются: вот это конь! Сразу три плуга тащит! Это было большое достижение в те годы.
Потом отменили карточки, и с 1935 года начался неуклонный подъем жизни. Все стало появляться в магазинах, можно было устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Постановили так: один член семьи работает в колхозе, другой – на производстве. Заводы росли повсеместно. У нас в Рогачеве работала щеточная фабрика. В колхозе появилась конная молотилка, косилка. Женщины на работе только перевязывали снопы. А с работы идут – песни поют.
Был расцвет культуры, в каждом селе появилась самодеятельность. У нас центр – село Покровское. Каждый выходной там собиралась молодежь со всей округи. Смотрели спектакль, который дает сельская самодеятельность, но часто и из Москвы приезжали артисты.
Помню, набивался полный клуб народу, слушали песни «Все хорошо, прекрасная маркиза». Еще тогда популярен был Чарли Чаплин: «Я бедный Чарли Чаплин, не пил, не ел [ни капли], подайте мне копеечку, я песенку спою»19.
Культура была на высоте. Собирались в клубе – ни одного пьяного, ни одного курящего. Одеты небогато, но аккуратно и чисто. Общались культурно. Нас воспитывал комсомол, большую роль играл в жизни молодежи. «Родина сказала – надо, комсомол ответил – есть!» Обязательной была сдача норм БГТО. Какая гордость, когда на груди значок «Готов к труду и обороне»! В нас воспитывали трудолюбие, скромность и патриотизм. Вот этот патриотизм и помог победить немцев.
Молодежь, наше поколение, проявила свою инициативность, героизм, потому что нас так воспитали. 37-й год – изобилие, 38-й – можно заработать и все, что хочешь, купить. Хочешь ткань на платье – любую бери, готовые вещи – пожалуйста. Обувь только кожаная. Ткани – хлопчатобумажные. В Клину открылся комбинат, везде работали ткацкие фабрики. Штапель, слышали? Вот его и выпускали. 39-й год – культура на высоте, жизненный уровень высочайший, колхозы получали огромные урожаи, скотные дворы были капитальные, скот ухоженный. Машин тогда было мало. В 40-м году вообще театры в Москве открывались, музеи подмосковные, дворянские усадьбы переделывали в музеи. Жизнь била ключом.
– А конфликта поколений не было? Как вы общались со своими родителями?
– Жизнь прожить – не поле перейти. Всякое бывало. Но старались конфликты регулировать. Комсомол нас воспитывал, учителя. И первым делом – скромность. Скромность украшает человека! Был такой лозунг. Приучали к труду.
«Женщинам надо поставить золотой памятник. Они кормили армию и тыл»
– Начало войны помните?
– И вот 41-й год. Война. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Добровольцами шли на фронт. Очень много ребят уходило. Все наше поколение в основном погибло. Тяжелый гнет четыре года. Начиная с 42-го стали приходить похороночки одна за другой. Но вот, Оля, война сплотила людей. Все жили как одна дружная семья.
Через нашу деревню наступали немецкие войска в сторону Рогачевского шоссе. Ехали сплошным потоком машины под брезентом. Немецкие солдаты все с автоматами, а наши отступали с винтовочками. Горько было. Пережили очень многое. И бомбежку, и оккупацию – одиннадцать дней. Немцы вошли в дом, огляделись: «Все, матка, здесь будет жить немецкий зольдат». Сидел на сундуке как таракан… Но надо сказать, что насилия над населением не было. И среди немцев, даже молодых, были те, кто признавались, что никакая война им не нужна, откровенно говорили: «Загнали нас за шесть тысяч километров сюда, не знаем, вернемся мы домой или нет». Домой они не вернулись. Отступали пешком, побросали всю технику в наших непроезжих оврагах и на лесных дорогах. Их же потом этой техникой, их же оружием и били.
Конечно, тяжело было, но помогла сплоченность, дружба. Лошадей забрали на фронт, а в 42-м году надо было посевную проводить. Норма для женщины – вскопать на поле шесть соток. Копали, засевали и получали рекордный урожай. Кормили армию: «Все для фронта! Все для победы!»20 Потом стало полегче, начали урожай со своих участочков собирать, и Бог помог: колхоз получал богатые урожаи пшеницы, ржи и овса. Идешь – рожь стоит стеной. Молотили цепами, ведь лошадей не было, чтобы воспользоваться конной молотилкой. Справлялись. Женщинам надо поставить золотой памятник. Они кормили армию и тыл.
Потом стали приходить отличные сводки: наши наступают, освобождают города. Я работала в школе, нам прислали парты из Москвы: школа имени Радищева взяла шефство над нашей семилеткой. Мы наделали флажков и отмечали на карте линию фронта – от Черного моря до Балтийского. Наступают – хорошо! Вперед, вперед, к границе! Это воодушевляло. Так и пережили войну.
Четыре года одежду и обувку можно было приобрести только на рынке. Ездили в Москву на Тишинский рынок, чтобы сандалии купить или кофточку какую-нибудь. Школьным учителям выдавали пятьсот грамм хлеба в день, и все. В 43-44-м учебном году начали каждый месяц выдавать по бутылке вина. Мы сами его не пили – все шло на какие-то нужды. Например, надо топор поточить или пилу. Мужчин же в доме нет. Бабушка говорила: «Вася приходил, поточил пилу и попросил бутылку вина, одну отдала». А что было делать? Так и жили.
Потом стало легче, появились свои продукты. Начали сажать больше овощей, запасались на целый год, ягоды собирали впрок. Сводки с фронта были хорошие. Между прочим, всю войну почта работала идеально, газеты выходили каждый день, несмотря на то что Подмосковье было оккупировано до канала имени Москвы. Помню, у нас в доме поселились шесть немцев, среди них – начальник штаба армии. Он ездил на машине, а когда намело огромные сугробы, машина застревала, приходилось вытаскивать. И вот он каждый день уезжал в восемь утра. А надо сказать, война много забрала, но и много дала. Немцы пришли одетые с иголочки, укомплектованные новейшим оружием, приборами, техникой, но они не были готовы к нашей зиме: легкие сапоги, шинелька и пилотка на голове. А тут в декабре 41-го морозы под тридцать, они отмораживали ноги, ругали русскую зиму. Настроение у них резко упало, стали горевать. И вот этот штабист уезжал утром, возвращался в три часа. Подъезжала кухня. Если не могла к дому подъехать, то солдаты приносили два термоса. Термосы! У нас их не было, термосов из нержавейки. Они кормили своего начальника, иногда и нас подкармливали. «Матка, ком! – бабушка выходила. – Дай миску!» Нальют гороховый суп, мясо там плавает. А у нас три дня ни крошки во рту. Делили эту миску на порции, ели помаленьку. Растягивали на вечер и утро.
А в другой раз несут десятки кур, уток, гусей. У штабиста был свой адъютант и повар – нас к русской печке не подпускали, мы ничего готовить не могли. И вот этот повар разделывал грудки, окорочка и жарил целый день. Наступил вечер: «Матка, лампу надо». А тогда лампа на керосине была. В Рогачеве лавка закрыта, керосин брать неоткуда. Бабушка говорит: «У меня керосина нет». Тут же немцы притащили ящик – оказалось, генератор. Подключили провода, и лампочка загорелась. Я тогда впервые электрическую лампочку увидела. А когда наши пришли, все забрали. Меня спрашивают, как жили в оккупации. Говорю, ели немецкий суп. А что делать? Голод не тетка!
Жили мы тогда вдвоем с бабушкой: отец за полтора года до войны выстроил новый дом в противоположном конце деревни. Мать там жила, брат и три сестры. Из них только одна сейчас жива.
При отступлении немцы сожгли двадцать восемь лучших домов в деревне. Люди разбрелись кто куда, по две-три семьи поселялись под одной крышей. К нам с бабушкой через сутки пришла родня, стали жить всемером. Бабушка мне помогала учиться. Когда отец уходил на фронт, сказал мне: «Позаботься о моей матери и своей бабушке». Я пошла в сельсовет и оформила опекунство. Ей был восемьдесят один год. Бабушка была мне лучше матери.
– Бабушка в Бога верила?
– Очень. Я с детства крещеная, росла в религиозной семье. Я и сейчас в Бога верю. Он есть! Творец и создатель. Какой-то высокий разум, космический, придумал и создал нас. До 37-го года мы ходили в церковь на все праздники. Потом уже церкви закрыли и нам стали вдалбливать, что это опиум для народа. Но в душе вера оставалась. Дома молились. У нас всегда иконы висели, никто их не трогал: ни комсомольцы, ни немцы, когда оккупировали. А в 43-м году церкви открыли. Говорят, по приказу Сталина.
«Труд – великое лекарство»
– Расскажите, как вы узнали, что война закончилась.
– Война закончилась так. Мы пришли на урок. Был теплый солнечный день, семиклассники играли в волейбол – москвичи нам дали мячик. Сумки и рюкзаки свалены в кучу. А ни машин тогда не было, ни телефонов, никакой связи. Гонец прибыл верхом на лошади и закричал: «Все, война закончилась! Вчера подписан мирный договор, а сегодня, 9 мая, объявлен праздничным днем!» Дети хватали сумки и бросали их вверх, крича «ура», радовались вместе со взрослыми. Этот День Победы останется на века, я всегда буду его помнить. Все собрались, вытащили столы прямо на улицу, у кого что есть – на стол, и начали пировать.
После войны стали все восстанавливать: колхозы, предприятия. Наладили движение между Москвой и Рогачевым, ходили по расписанию машины немецкие. Товарный поезд ездил, но медленно, потому что дорога не везде была надежная, кое-где мины попадались. А потом движение по Савеловской дороге восстановили. На товарных поездах приезжали москвичи, ездили по деревням и меняли вещи, мыло или масло подсолнечное на картошечку, что получали по карточкам, потому что в городе картошки не было.
Все ощущали подъем: все будет хорошо. Народ изменился, появилось больше энтузиастов. Трудились, восстанавливали разрушенное. Труд – великое лекарство. Женщины оплакивали потери, конечно, но что делать… Женщины все переживут. Война без потерь не бывает.
«Я очень требовательная, но справедливая»
– Я работала учительницей. В 40-м году окончила двухгодичный Загорский государственный учительский институт. В 37-м по приказу Сталина храмы и семинарии в Загорске21 переделали в институты. Потом учителей-мужчин призвали в армию и школы остались без учителей, потому что до войны в школах работали в основном мужчины. Я после института сразу пошла преподавать. Тогда ведь было введено обязательное семилетнее образование, и стали на периферии, во всех крупных населенных пунктах, создаваться семилетние школы.
Школа во время оккупации сильно пострадала: стены, мебель – все. Немцы там устроили госпиталь – школа пропахла карболкой. Ободранные панели. И я взялась за восстановление здания. Мне сказали: ты волевая, справишься. Бегала по инстанциям, обивала пороги начальников, ездила в Клин на мебельный комбинат за партами. И все получилось. Школа была отремонтирована.
– Слушались вас ученики? Строгой вы учительницей были?
– Я очень требовательная, но справедливая. Со стороны учеников и родителей никаких претензий не было. Вот расскажу такой эпизод. Я семь лет отработала в городской школе, вышла замуж и перешла в свою деревенскую начальную школу, потому что надоели съемные квартиры. (Семь лет жила на частной квартире, пока работала, а тут захотелось пожить в своем доме. И мне РОНО22 посоветовал перевестись.) Однажды пришли медсестры делать прививку от оспы. Говорят: прекращайте работу, закрывайте тетради, обнажайте правую руку и вставайте в очередь. Пошла к коллеге в соседний класс предупредить, чтобы она своих тоже вела к нам на прививку. Вернулась, а два мальчика убежали домой. Я не пошла к родителям. Утром эти двое как миленькие пришли в школу и садятся за парту. Я говорю: «Пока не принесете справку, что вам прививку сделали, я вас к занятиям не допускаю». Пошли домой. Мама у одного была очень строптивая: как это, что за самоуправство? Поехала в РОНО на меня жаловаться. Там выслушали и говорят: правильно поступила учительница. И мама повезла сына в Рогачево делать прививку. На третий день пришел, положил справку. Конечно, никаких укоров, замечаний, закрыли тему. Но больше никто не сбегал из класса. Вот на таких примерах учила.
«Первый муж – от Бога, второй – от Сатаны»
– Будущий муж, Сергей, был секретарем комсомольской организации в селе, вел обучение допризывников.
– Влюбились?
– Ну, в обморок не падала. Сначала были товарищеские отношения, потом он в 40-м году ушел на фронт, на Дальний Восток.
В 41-м году – война, и его с Дальнего Востока отправили на Второй Украинский фронт.
Война закончилась, он остался цел и невредим, поскольку служил в дальнобойной артиллерии. Выходили на прорыв обороны, как он рассказывал. Небольшое затишье на фронте – надо прорывать оборону: выкатывают дальнобойные орудия и дают залповый огонь в течение нескольких часов. Немцы начинают отступать, а наши передовые части идут вдогонку. Сначала шла пехота, за ней – танки. Освобождали один город за другим. Это воодушевляло.
После окончания войны Сергея снова перебросили на Дальний Восток воевать с японцами. Только в июле 47-го он демобилизовался. Мы встретились как старые приятели.
– Сразу поженились?
– Образовали семейную ячейку, как тогда говорили. Отношения были нормальные. Воспитанный мужчина, ровный, работал в Рогачево на фабрике начальником цеха. Уважаемый человек, но очень скромный. Так и прожили с ним тридцать два года.
Надо сказать, фронтовики вернулись все больные. У многих была онкология, кто-то с осколком под сердцем – жили очень мало. У мужа тоже нашли онкологию, рак почек, и в 80-м году я его похоронила. Осталась одна в большом доме.
– А до мужа за вами ухаживал кто-то? Были поклонники?
– Были. Но только друзья, товарищеские отношения.
– И никто не нравился вам?
– Нет. Такое было время. Нас воспитывали в скромности. Я замуж вышла в двадцать пять лет. А до этого только товарищеские отношения, ничего такого. Физическая близость была только с будущим мужем. Первый муж – от Бога, второй – от Сатаны. Так что все старались сохранить первый брак. Удачный, неудачный – терпели. Детей растили, воспитывали.
– Муж заботился о вас?
– Не то слово. И это было взаимно. Мы прожили тридцать два года, и я ни одного слова грубого от него не слышала. Спокойный был, отличный выдержанный характер.
– А вы тоже спокойная?
– Ну, иногда характер проявляла. Но на пять минут, а дальше успокаивалась. Все бывает в семье.
«Какие бы невзгоды ни случились, а приходишь к детям, и все забывается»
– Детей строго воспитывали?
– Да. К труду приобщала с раннего детства. Сама шла работать и их тащила. Они были приучены ко всему. Особенно старший. Я благодарна армии: там тоже воспитывали как надо. Я им не стирала ни куртки, ни брюки – сами стирали, штопали, гладили утюгом. И слово мамы для них было законом!
Дети меня не бросали, у меня было два сына. Старший окончил техникум легкой промышленности в Москве, был призван в военно-морской флот, в Мурманск. Пробыл там полгода, их, двенадцать человек технарей, отправили в Николаев, где они изучали новые военные корабли – эсминцы. Потом опробовали их, с припиской к Севастополю, а затем, вы же знаете, тогда холодная война была – в Суэцком канале начались военные действия. И наши по приказу туда отправились. Три эсминца в сопровождении подводных лодок, сын три года был в Египте. Никаких вестей.
Жили мы в те годы, Оля, не сказать, что бедненько, но все-таки хотелось получше. Вырастишь ягод, черной смородины, и везешь в Москву продавать. Какие-то дополнительные деньги получали. И вот однажды возвращаюсь, а дома конверт – большой, весь в печатях Министерства обороны. Я решила: похоронка. Люди собрались, говорят: «Что ты плачешь? Открой!» А там благодарность за воспитание сына – отличника боевой и политической подготовки. Четыре года и два месяца мы не виделись. После Египта его опять перевели в Мурманск. Потом, отслужив, в институт поступил, Московский инженерно-строительный. Учился на вечернем факультете. Друга там хорошего нашел. А работал он тогда по направлению в городе Раменское технологом ткацкого производства. Обслуживал весь цикл – от хлопка до готовой ткани. На учебу ездил с этим другом каждый день в Москву. Окончил обучение в 77-м году, в июле приехал, показал диплом. А в августе сказал: «Мама, я женюсь!» В сентябре сыграли свадьбу.
Второй сын окончил среднюю школу в Рогачево и техникум в Твери. Он приобрел три специальности: токаря-универсала, слесаря и водителя. Проработал три месяца – забрали в армию. Служил в ракетных войсках, в Архангельской области, на космодроме Плесецк. Слышали?
– Конечно.
– А тогда секретный был, никто о нем не знал. После службы поехал в Королев, и его тут же взяли в научно-исследовательский институт машиностроения токарем-универсалом. И до самого выхода на инвалидность он работал на этом предприятии. Первый инфаркт, за ним второй, третий – и все. В возрасте пятидесяти шести лет младшего сына не стало. Попросил: «Мама, похорони меня в Покровском, на сельском кладбище». Все выполнила. Остался только старший. Когда в 2008 году я тяжело болела, он приехал ко мне. Сам был уже на пенсии, но работал. Бросил все, приехал и скоропостижно скончался от коронарной недостаточности.
Bepul matn qismi tugad.