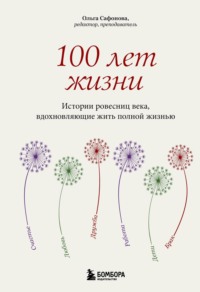Kitobni o'qish: «100 лет жизни. Истории ровесниц века, вдохновляющие жить полной жизнью»
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Сафонова О. А., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
* * *
Книга для тех, кто привык откладывать жизнь на потом.
Предисловие Ольги Сафоновой

Был у меня трудный период, когда я перестала чувствовать вкус жизни. Одна нерешенная проблема, тяжелый разрыв отношений – и вот мне уже безразлично, какая погода за окном и что лежит на тарелке… Возможно, вам тоже знакомо такое состояние: один день сменяется другим, но вы проживаете их не на полную мощность, а как бы спустя рукава, пока настоящая жизнь проходит мимо.
У меня это длилось около года. В какой-то момент я поняла, что не справляюсь в одиночку, и обратилась за помощью к психологу.
Мы встречались два раза в неделю, и терапия быстро возвращала мне позитивный настрой с помощью бесед и гипноза.
Но особенно запомнился один простой тест: на листке бумаги нужно было обозначить отрезок, символизирующий протяженность моей жизни, а затем поставить на нем точку, в которой я, по ощущениям, нахожусь прямо сейчас.
Отлично помню, как отметила примерно треть пройденного пути… В том и крылся подвох! В какой бы точке отрезка ни были, мы понятия не имеем, на каком этапе сейчас находимся. Может быть, на последнем.
Это касается не только нас самих, но и наших близких: родителей, бабушек, детей, друзей, любимого человека. Мне на тот момент было 34 года. И я даже не умножала эту цифру на три, когда ставила точку. То, что все еще впереди, было лишь внутренним ощущением человека, который привык все откладывать на потом.
Именно тогда я поняла, что у нас нет черновика, нет права проживать дни без осознания их важности. Никто не знает, сколько ему отмерено.
Не могу сказать, что мое существование сильно изменилось с тех пор. Я не прыгнула с парашютом, не совершила в одиночку кругосветное путешествие на парусной яхте, не нарисовала картину, не сняла фильм… Список можно продолжать еще долго.
Но я стала осмысленнее относиться ко времени, даже если раньше оно казалось мне совершенно обычным, ценить общение с дорогими людьми и не ото двигать на второй план заботу о здоровье, в том числе поход к стоматологу или элементарную зарядку по утрам.
Тем не менее внутри меня, как и у многих женщин, по-прежнему не прекращается борьба между любимым миндальным круассаном и красивой фигурой. Каждый понедельник я перехожу на здоровое питание и обещаю себе меньше тратить времени на бесполезные занятия вроде пролистывания новостной ленты в социальных сетях.
Но, если честно, я так до конца и не поняла, на что же нужно тратить это самое время? Что я буду вспоминать годы спустя?
Мы постоянно придумываем себе ограничения и терзаемся, если не следуем своим же правилам. Но нужны ли вообще правила, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь? Стоит ли отказывать себе в чем-то ради преимуществ в далекой перспективе?
К сожалению, я до сих пор не научилась жить в гармонии, не переживать из-за ерунды, не злиться, не обижаться, не растрачивать свою энергию и душевные силы на те события, которые не представляют для меня никакой ценности. Я сама по себе очень тревожный человек, и жизнь в мегаполисе не добавляет спокойствия.
Мы много работаем, мало спим и мало отдыхаем, а если и отдыхаем, то активно – в путешествиях. Мне, например, требуется дня три в отпуске, чтобы перестать каждые пять минут хвататься за телефон, побороть желание куда-то бежать и о чем-то думать, а вместо этого просто посидеть на берегу моря, помечтать, посмотреть вдаль и расслабиться.
Жизнь, отношения и переживания – все ускоряется. В итоге мы перегораем на работе и к 35 годам уже от всего устаем. Когда ты в постоянном напряжении, жизнь начинает утомлять, а каждый день похож на предыдущий.
В 2018 году, когда я начала собирать материалы для этой книги, мы жили в изобилии: вещей, еды, развлечений. Но в какой-то момент надоедает и изобилие. Помните, как у Лермонтова в «Герое нашего времени»: «…я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели».
Мне было важно найти ответы на свои вопросы, поговорить с людьми более опытными и мудрыми. Тогда я начала искать в Интернете статьи и книги о долгожительницах. Интересно, как и с каким настроением им удалось дожить до такого солидного возраста? О чем бабушки тревожатся сейчас и тревожатся ли вообще? Что чаще всего вспоминают? Что заставляет их вставать с кровати по утрам? Не устали ли они от жизни? Есть ли у них какие-то мечты? Я хотела найти людей, доживших до глубокой старости и не утративших способность радоваться жизни.
Меня интересовали именно бабушки, потому что в первую очередь занимали ответы на мои личные душевные переживания. Между тем попадались только отдельные истории, не содержавшие достаточно информации. Тогда и возникла идея: почему бы мне самой не встретиться с десятью бабушками и не оформить результаты бесед в книгу? Ведь если этими вопросами задавалась я, возможно, они покажутся интересными и кому-то еще.
Уже в процессе написания одна бабушка сказала мне: «Сейчас я живу как королева, у меня есть все. Но уже не осталось сил на то, чтобы воспользоваться этими благами».
Жизнь коротка, и даже если цифры говорят вам обратное, не верьте. Люди в столетнем возрасте, оглядываясь на прожитую жизнь, понимают, что даже у них она пролетела как один миг. Увы, многие так и не успевают почувствовать удовольствие, что она способна принести.
Эта книга не о здоровом образе жизни, в ней нет секретов долголетия. Она написана без претензий на оригинальность и философию. Но, конечно, я не могла не полюбопытствовать, как же бабушки дожили до своего возраста без тренингов по саморазвитию, пластики и накачанных губ, без консультаций диетологов и нутрициологов, тренажерного зала и достижений современной медицины.
Эта книга для тех, кто хочет перенять чужой опыт, оглянуться на свою жизнь и понять, что она у нас одна – другой не будет. У нас не так много времени на все задуманное. Пусть порой нам и кажется, что это не так.
Бабушка Валентина
РОДИЛАСЬ 22 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ1.
ЖИВЕТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Счастья большого не было.
Знать дело и делать свое: и детей догляди, и хозяйство догляди, так ходишь, и ходишь, и ходишь…
Да, именно Красноярский край. Всего одна минута сомнений – с каким регионом связать мою героиню? – и я решительно записываю ее в сибирячки. Бабушка Валентина такая по рождению, по образу мышления, по своей сущности. И никакая Москва, где она прожила последние десять лет своей долгой жизни, не способна вытравить из нее этот особый таежный дух, в котором, как в дорогом парфюме, намешано множество редких ингредиентов: искренность чувств, чистота помыслов, крепость воли, мудрость простых истин, смиренность сердца.
С долгожительницей мы встречаемся в подмосковном частном доме престарелых в год ее столетия. Добираться туда по весеннему бездорожью – то еще удовольствие. Кругом плотный лес, вековые сосны – почти сибирская тайга. Тайга, да не та, для бабушки Валентины уж точно. Да и все тут для нее чужое, чуждое. Хотя, признаться, и вправду хорош здешний «санаторий» – так, чтобы не травмировать и без того хрупкую психику пожилых постояльцев, их родственники и персонал называют дом престарелых. Так и доживают свой век старики, словно в сказке, не ведая горькой правды. И бабушка Валентина – одна из них.
«Ничего нам не мешало, жили и жили…»
Маленькая, хрупкая, не по-сибирски изящная старушка с особым окающим говором. Во время нашего разговора долгожительница то путается в словах и воспоминаниях, повторяется, а то вдруг очень четко и последовательно формулирует свои мысли.
На мое предложение побеседовать о ее жизни Валентина сетует:
– Я теперь уж се [все. – Авт.] позабыла, мне не вспомнить. Из памяти выходит, а что спросите, может, отвечу.
И как же хорошо мы с ней говорим, несмотря на огрехи ее памяти!
– Родилась в Красноярском крае, в Абакане я жила. Жили мы вместе с родителями, там они и схоронены.
В ходе разговора выясняется, что все же не в самом Абакане родилась моя собеседница, а в Быскаре – была такая деревенька на юге Красноярского края, рядом с Хакасией, да, как говорится, сплыла. Причем в прямом смысле слова: в 1963–1966 годах ее вместе с другими населенными пунктами похоронили на дне Красноярского водохранилища. А заодно – более чем 200-летнюю историю этих заповедных мест, активное освоение которых началось еще при Петре I.
– На Енисее стояла деревня у нас, – уточняет бабушка. – Протоки были, и вот мы там жили. Ничего нам не мешало – жили и жили, жили и жили2.
Местным жителям, может, ничего и не мешало, а вот индустриализаторам мелкие деревни и села тогда очень даже мешали претворять в жизнь планов громадье, поворачивая реки вспять.
– ГЭС как строили, так затопление было. Не одна наша деревня, а много деревень позатопило. Ну это известно же тебе? – спрашивает меня Валентина.
Да, дорогая бабушка Валя, моему поколению известно, что при строительстве Красноярской ГЭС с лица земли были стерты 132 населенных пункта и переселено порядка 60 тысяч жителей. Да и повесть Валентина Распутина «Прощание с Матерой» мы все читали в школе. И хотя тамошние события разворачиваются на реке Ангара при строительстве Братской ГЭС, в обоих случаях речь идет о трагедии. О тысячах личных трагедий, которые слились в одно безмерное человеческое горе.
К моменту затопления в Быскаре, как гласит Ин тернет, насчитывалось более сотни домов. Валентине, матери четырех сыновей, тогда было чуть больше 40.
– Переживали, что дом пришлось бросить?
– Дом наш оформили, увезли, нам заплатили за это се. Туда, на другое место, нас назначали, а потом разрешили, куда хочешь поезжай, – уже без эмоций, как-то буднично вспоминает дела минувших дней долгожительница. Видно, давно отболело.
«Только сегодня детство вспоминала, где была и что делала»
Много ли помнят о детстве те, кто перешагнул столетний рубеж? По-всякому бывает. Одни, в основном почти потерявшие связь с действительностью, только детскими воспоминаниями и живут. Другие – каждый по своей причине – погружаются в далекое-предалекое прошлое редко, неглубоко, неохотно.
Разные мне попадались старожилы. Валентина, скорее всего, ближе ко вторым: не дала мне возможности представить ее детство в красках. А может, красок-то особых в нем и не было. Как и во всей ее жизни, прошедшей в бесконечных трудах. Жизнь как черно-белое кино. И это на таком-то фоне – сибирском, сочном, многоцветном!
– Что запомнилось из детства?
– Только сегодня вспоминала, где была и что делала. Как играла, бегала по горочкам, в родник спускалась, ягоду-черемуху рвала, ела, глубеницу3 собирала. Никто за мной не следил. Это, может, мне было лет восемь-девять.
Валентина росла в многодетной семье. Причем большинство детей – отца, от первой жены, и все мальчишки. Во втором браке родились, похоже, она и еще одна девочка. Вот только моя собеседница так и не смогла точно ответить на вопрос, сколько братьев-сестер у нее было:
– Сильно много. У отца была семья, жена умерла, он женился на другой, я у них родилась. Се [все. – Авт.] мальчики были, а я девочка, меня жалели. Может, мама и поругает за что, теперь и не помню, а где поругает – проходило… Семья была большая, потом разъехались кто куда. С родителями я одна осталась.
Крестили ее или нет, моя героиня не знает, но скорее да:
– Тогда ходили по деревне церковные бабушки и крестили нас по-своему, по-деревенски.
А в родной деревне бабушки, Быскаре, храма не было:
– Нужно было ехать в район, там церква была. Помню, мама меня как-то возила в церкву килoметров за двенадцать.
Есть в воспоминаниях долгожительницы и другие намеки на то, что семья была верующая. И не скрытно, а явно верующая. По словам моей героини, в красном углу избы стояли иконы, сами они отмечали церковные праздники:
– Кажный праздничек мы знали: и Пасху, и Крещение. В основном, конечно, знала мама. И иконочка у нас была Божьей Матери, и Николай Угодник был.
И это несмотря на гонения, которые обрушились на церковь в 20-30-е годы. Но, возможно, религиозная история в Сибири писалась по-другому: там ведь все и всегда по-своему. Бабушка Валентина, по ее признанию, и своих детей крестила, для чего ездила в соседнее село. И тоже без опаски, открыто. А было это уже в 50-е годы, опять же не лучшее время для Русской православной церкви.
Быскарские дети, рожденные после революции, были грамотными: в 1917 году, гласит «Википедия», в деревне открылась школа и, судя по тому, что Валентина имеет только четыре класса образования, школа эта была начальная.
«Сахар? Не знаю, не видела»
Про откровенно голодное детство долгожительница не упоминает ни разу. Зато с удовольствием рассказывает про домашнюю выпечку:
– Тогда хлеб не покупали, сами пекли. Сеяли, убирали, жали. Какое зернышко насобирают, на мельнице намелют. Из этой муки и стряпали хлеб, хороший был, вспоминается. Шаньги4, пироги, булочки, калачики. Плит не было, в русской печке се [все. – Авт.] стряпали. Когда повзрослей стала, собирали черемуху, сушили ягоды и тоже мололи в муку, потом ее добавляли к обычной. Ну хоть немножко вы понимаете? Знаете?
Понимаем, бабушка Валентина, еще как понимаем. В наше время, когда продукты легко приобрести в супермаркетах, начинают возрождаться традиции домашнего хлебопечения. Именно сейчас, когда технологии шагнули далеко вперед, до нас начинает доходить важность качества продуктов и заботы о своем здоровье. Помимо этого, мы осознаем потребность выходить из цифрового мира, учиться делать что-то своими руками, сохранять культурное наследие.
Да, у нас нет русской печи, зато есть множество помощников на кухне – от хлебопечки до посудомойки. А мне до слез жалко бабушку и ее родителей: как же ловко в те непростые времена надо было вести хозяйство, чтобы и с голоду не умереть, и не прослыть куркулем!
По словам бабушки Валентины, они «единолишно жили»:
– Ни в колхозе, ни в совхозе, а сами по своей [себе. – Авт.]. Многие так жили: хозяйство свое держали, скот держали, и куриц, и уток, и гусей. Огород был большой, много земли было – хватало. Картошку садили в огороде у своем [в своем. – Авт.]. А еще землю отводили: там сеяли хлеб для себя, сено косили. Се управлялись, се делали, так единолишно вот жили5.
Спрашиваю у бабушки про сахар, думая, что это предел мечтаний детворы начала прошлого века. Но, похоже, для детворы этого поколения сахар сам по себе не представлял особой ценности (может, как раз из-за своей недоступности?), в почете были другие сладости.
– Сахар? Не знаю, не видела. Но как дядька наш родной поедет в деревню или в Абакан, то привезет какое-то печенье, конфетки, прянички. Радовались мы им или нет, этого я уже не помню.
– А подруги у вас были?
– Сильно дружить некогда было… Ну были, были, свои были и чужие полдеревни. До войны много было подруг. Купаться ходили на Енисей, на протоку, и зимой туда ходили – баловались.
– Счастливое детство было?
– Для меня счастливое.
– А когда вы больше были счастливы: в детстве или в замужестве?
– А я не знаю, не помню… Се одинаково, однако, было.
– Может, когда дети родились, вы были счастливы?
– Какое там счастье, господи…
– Тяжело было?
– Сяко [всяко. – Авт.] было… Счастья большого не было. Знать дело и делать свое: и детей догляди, и хозяйство догляди, так ходишь, и ходишь, и ходишь…
И ведь у всего поколения, к которому принадлежит героиня, такие размытые представления о счастье. Да и не мерили, похоже, они свою жизнь этим аршином. Могу предположить, что в крестьянском обиходе слова «счастье» тогда и в помине не было. Нет времени – нет оценки своего состояния – нет слов, выражающих его. Не до поэтики было в те годы. Работа, хозяйство, дети – вот категории, которыми мыслили обычные крестьяне.
«Везде, везде роботала – и за мужика, и за бабу»
Великая Отечественная война с ее ужасами до центра Сибири не докатилась: здесь не бомбили, не стреляли, фашисты не топтали землю своими сапогами, местные жители не смотрели ежедневно смерти в лицо. Оттого воспоминания и эмоции об этой важной вехе в жизни страны у сибиряков сглажены. По большому счету война в памяти многих из них – это три эпизода: отправка здешних мужиков на фронт, ежедневный трудовой подвиг на протяжении четырех лет и, наконец, День Победы.
Вот как рассказывает о войне долгожительница:
– Когда началась война, шел мне уже двадцатый год. Помню, как забирали сех [всех. – Авт.] парней… У нас в деревне тихо было: ни стрельбы, ничего. Не было страху, только роботали и роботали. Меня до войны отправили на курсы учиться на заведующую яслями. В яслях были женщины пожилые, их убрали, а молоденьких учили. К молоденькой дитя пойдет лучше, а уж старая женщина не то уже. Я в яслях четыре года проработала: до войны и год в войну. И в колхозе. Везде, везде роботала – и за мужика, и за бабу. Трактор был, комбайн. Молотили, убирали урожай в войну… Помню, 9 мая 45-го мы в огороде садили, тогда как-то теплее было. Ну и сообщили в контору, что кончилась война, а они – сем [всем. – Авт.]. Рады, конечно, были, что се [все. – Авт.] кончилось.
Сибирь и правда особый мир. Таким он оставался и во время войны, только трудиться и без того работящим сибирякам приходилось еще больше – за себя и за того парня, ушедшего на фронт. А может, за десяток таких парней.
Разумеется, удаленность региона от центральной части страны влияет на все. И объясняется это и историей, и климатом, и культурными традициями. Сибиряки, например, обычно считаются более выносливыми и настойчивыми людьми. Что неудивительно, учитывая суровые зимы и обширные сибирские просторы. Жизнь в тяжелых погодных условиях, вдали от крупных городов, формирует уникальные качества характера: самостоятельность, умение приспосабливаться к переменам и сильную связь с природой. Это заметно и по моей героине.
«Любоф не любоф, пришлось жить вместе»
Мужа Валентины звали Константином. И он был для нее по-настоящему суженым – судьбой. Иначе говоря, не выбирала она его.
– Пришел солдат с войны – наш, деревенскай парень, у него ни родителей, никого не было. А мы жили: мама, папа, я и еще сестренка. И он к нам прибился, мы его приняли. И вот мы жили с ним.
– Вы по любви замуж вышли?
– Не-а, любоф кака? Мы с детства се [все. – Авт.] вместе, и работали в колхозе до войны, друг друга знали… Любить… Ну, любоф не любоф, пришлось жить вместе. Ну любили, конечно, какой-то любовью… Что-то я не знала про любоф…
– Не знали, что это такое? – улыбаюсь я.
– Сошлись – и ладно, – смеется Валентина.
– Он ухаживал за вами, комплименты делал?
– Нет-нет, не было такого раньше. Детьми играли, бегали друг с другом, но чтобы там друг друга любили или хахалей6 заводили – не было такого… И до войны не было, а в войну некогда было эту любоф догонять. Мне пару лошадей дали, хлеб чтобы возила. Сено косили, жали, хлеб убирали, снопы вязали, суслоны7 ставили, сушили, а потом собирали, молотили… Вот так и шло, и шло, и шло.
– Вы считали себя красивой в молодости?
– Если была бы красивая, и сейчас была бы красивая. Ну, такая была… чучело. Как сейчас.
– Стройная были?
– Стройная, как кошка лазила везде.
– Может, спортом каким по молодости занимались?
– Какой спорт?! С утра и до самого вечера работали – вот тебе и спорт. Надо еще скотину накормить, напоить, теленочка доглядеть, почистить. Вот так ходишь, ходишь, ходишь, ходишь. Ну, конечно, не одна я по хозяйству хлопотала, ребятишки пособляли, да и сам, сам муж-то мой. Но он на роботе же, не буить [не будет. – Авт.] сидеть дома с хозяйством. Сначала трактористом был, а потом чабаном8: пасет там неделю, живет, а потом дома бывает. Помогал, но се больше сама я делала дела по дому.
– Сколько у вас с Константином детей?
– Четверо, се [все. – Авт.] мальчики, девочек нет. Вот я и переживаю, плохо мне. Была бы у меня доча, мне бы легче было.
– Легче в каком смысле?
– Ну так се равно девочка и есть девочка… ближе к маме. А мальчик и есть мальчик. Повзрослели они и уехали учиться. Институт один кончил, другие… Как это называется? Техникум, вот, кончили, а потом их по направлению отправляли куда надо… Дома-то не жили они, с нами не жили, как выросли.
– Вы строгой были матерью своим детям? Мальчишки же…
– Да, строгая, но не сильно строгая. Сильно их не обижала: обувала, одевала. Сильно плохого не было, ну потом они повзрослели, стали помогать мне.
«Сын у меня умер!»
Есть еще несколько отрывков из нашей неспешной беседы с бабушкой Валентиной, которые я хотела бы процитировать, как говорится, без купюр. Они по большому счету не нуждаются в развернутых комментариях – разве что в ремарках. Вот один из таких фрагментов нашего разговора:
– Муж-то вас не обижал?
– Сяко [всякое. – Авт.] было, он выпивать любил хорошо. Но бояться не боялась его: так, серьезного не было… Но ругался, как выпьет. Се равно он хозяин. Хозяин-то знал дело: и сено коровам даст, се [все. – Авт.] делал… Давно умер.
– Скучаете по нему?
– Скучала, конечно, скучала, как же? Хозяина нету, дак как же не будешь скучать? Се равно, как-никак… Он сильно не болел, че-то быстренько плохо сделалось ему, раз-раз – и я осталась одна. Дети были взрослые, когда он умер, я с одним сыном жила. По-сякому [по-всякому. – Авт.] пришлось. Сильно хорошего не было… Но муж-то че, уж пожилой был… Сын [эмоционально выделяет это слово. – Авт.] у меня умер!.. (С горечью.) 32 годика было – вот об этим я скучала. Я сильно, сильно плакала, из-за этого на глаз ослепла.
– Сможете рассказать, что случилось? – осторожно интересуюсь у собеседницы: не хочется ее ранить, подняв со дна души горестные воспоминания, но не спросить об этом не могу.
– (После паузы.) А-а? С сыном? Тоже скоропостижно умер… Он в Абакане жил, женатый был второй раз. Сначала роботал на бурвышке, а потом бригадиром, сколько-то у него там людей было в подчинении, и вот он командовал имя [ими. – Авт.]… Се ладно было, а вот… Сидели с товарищем за столом. Затемнело. Он домой-то не пошел, на полу заночевал. На спину лег, а выпивши были. И задохнулся отрыжкой… Хлеботиной9 этой захлебнулся. Лег бы на бок… И тоже не болело ничего, так скоропостижно и умер.
– А дети у него были?
– У него дети? Остался один сын от первой жены, он с матерью той жил. А с другой женой не было детей. Мы че? Поехали, схоронили… Сильно переживала.
– Что помогало в отчаянье не впасть?
– После похорон сына приехали мы домой. Муж-то еще живой был, мы вместе вот так и переживали. Сын давно отдельно жил, ну, думаешь, он где-то там и живет, а как вспомнишь, что его нет… Тяжело, тяжело было переживать… Не дай Господь потерять дитя…
Много на веку повидала бабушка, но обо всем рассказывает мне беспристрастно, будто вся ее жизнь давно перегорела в топке событий и уже даже не тлеют отдельные угольки. И только воспоминание о трагической гибели сына взбудоражило долгожительнице душу. Считай, полвека прошло с той потери, а так и не отпустило ее это страшное горе – не тлеет, а все еще горит и жжет материнское сердце. Да, не дай Господь потерять дитя…
«А меня деть некуда…»
Москвичкой, если, конечно, мерить мерками долгожительницы, она стала недавно – на десятом десятке:
– До девяноста лет мы еще там, в деревне, жили. У меня дом свой был… и остался. Я в огороде се [все. – Авт.] садила. Морковочку и помидорчики – се садила, се доглядала. Ну помогали, конечно: сам хозяин помогал, потом и ребятишки, а потом внучата больше. И невестка, которая умерла, помогала. Так и жили, друг друга не обижали, се хорошо было.
Очевидно, что в Москву престарелую мать привез один из сыновей, когда-то осевший в столице и тоже уже пребывающий в приличном возрасте, но я все равно спрашиваю бабушку о причинах переезда – тяну ниточку, чтобы клубочек размотать.
– Там печка была, плита, надо топить, а у меня уж сил не хватало. Она, невестка: «Поедем, поедем, се будет готовое, на готовом будешь». А потом, после у них свое пошло, у меня – свое. Ну там че-то как-то не пожилось у нас… Я так-то у сына жила, а он сейчас в командировки уезжает, а меня деть некуда. Замкнýтая. А че, я одна там: она уходит на работу, он уходит, уезжает и в командировку, и везде. Вот и решили сюда… в санаторию… Вот пока тут, не знаю, куда дальше…
Интересуюсь, сколько лет теперь ее сыновьям. Один, Василий, 1950 года рождения. Другой, Михаил, 1954-го, а про третьего бабушка почему-то ничего не сказала. Родственников у Валентины, оказывается, довольно много: помимо сыновей, есть внуки, правнуки – десятка два наберется.
– У вас, наверное, много правнуков уже, да?
– Ой, много конечно, у одной внучки две дочки, у другой – четверо, у третьей – четверо…
– Они приезжают?
– Не-е-ет… Ну раньше-то приезжали к нам в деревню.
– А сейчас?
– Нет, в такую даль, куда? Они далеко живут: одна на Украине живет, а другая – в Казахстане… Или не в Казахстане? Ну не вспо-о-омнить. Вот хорошо знаю, крутится, а не вспомнить… Меня завезли сюда, в «тайгу», я сижу, как пень горелый, никого не знаю… Ни своих, ни чужих.
Вот как! Это для нас Сибирь – глухомань, а для бабушки Валентины дремучая тайга – Подмосковье.
– Не скучаете тут?
– Я скучаю по дому, по деревне по своей. Там у меня сын и два внука, так там и живут. Я бы сейчас с удовольствием уехала домой.
– Почему?
– Там же се свои, знакомые.
– А город вам не нравится?
– Нравится. Город и есть город. Се хорошо относятся, а се равно оно как чужое.
– У вас тут лес, сосны – хорошо же! Похоже на Красноярский край?
– Нет-нет. Тайга же, тайга! Природа не такая, другая.
– А туда, в родную деревню, почему вас не забирают?
– А как заберут? Сейчас никак нельзя. Я просилась туда… Но там каждый сам себе живет.
– О чем-нибудь мечтаете? Хочется чего-то очень-очень?
– Что хочется? Ничего не хочется. Сижу, сижу… Не знаю, что будет дальше. Как они отнесутся ко мне? Как схоронят? Как я умру? Бог его знает как. Как Бог даст. Не бросят же, хоть они в командировке, не бросят же се равно… Как, если умру здесь, в санита… этой, ну, где нахожусь… Как говорится, как Бог даст. Хоть бы не отказали от санатории… Тут буду жить пока. Я не знаю, как живу, никто мне ничего не говорит. Как свои бы были, посоветовали бы. Но тут не бросают меня, относятся хорошо. Давление мерят, таблеточки дадут, где что надо, так дадут. Се хорошо. Пока вот живу, живу, сижу, сижу, не знаю, что будет дальше. Что будет, то будет.
– Как вы здесь проводите время?
– Губы зажмешь, глаза закроешь и сидишь. Пень пнем теперь, сейчас… Ну молюсь я, молитвочки читаю. «Богородицу» знаю, «Отче наш» знаю, сама по себе сложишь молитвочку: «Господи, прости меня». Что-то надо делать…
– За детей, наверное, молитесь, за своих?
– Да-да. «Прости и сохрани, Боженька, сех [всех. – Авт.] нас: меня и всех детей моих, и знакомых».
– Чем вас здесь кормят?
– А что принесут, то и кушаю.
– Может, что-то особенное любите из еды?
– Какая любоф? Приносят сяко [всяко. – Авт.], как говорится: и жарено, и парено. Хорошо кормят. Напоена, накормлена, догляжона, обстирана. Никто не обижает, се готовое. В общем, се хорошо. Людям и хуже приходится… Вот только тоскую о своем доме… – будто саму себя, да и меня тоже, уговаривает бабушка Валентина, убеждает в том, что ее крест не самый тяжелый. И тут же снова впадает в уныние, и сама же себя из него вытаскивает: – Я вот так сижу, сижу, переживаю, говорю: «Слава богу, хоть меня Господь не бросает». Людя́м и хуже приходится жить, мне-то хорошо. Я и своим звоню: «Мне хорошо, вы берегите себя… Обо мне уж не беспокойтесь, мне се ладно».
Все понимаю: у каждого своя жизнь, свои проблемы, у сыновей, возможно, даже хуже со здоровьем. Но глядя на эту маленькую, смертельно одинокую бабушку, у которой тем не менее «се ладно», сердце сжимается от тоски. Может, и вправду, будь у Валентины дочка, глядишь, на иную финишную прямую вышла бы ее жизнь?
«Надоело жить, надоело жить. И куда сейчас деваться, не знаю»
Чтобы не расплакаться, пытаюсь перевести разговор на философские темы. Но философствовать людям старой закалки и особенно тем, кто всю жизнь трудился на земле, несвойственно – убеждаюсь в этом снова и снова. Хотя, возможно, отсутствие философии в привычном для нас понимании тоже философия, только с иной формой познания мира и системой знаний о нем? Как ни крути, а в рассуждениях да и во всей жизни моей героини прослеживается своя логика.
– В чем, по-вашему, смысл жизни?
– Никакой [никакого. – Авт.] не было. Так себе, роботали и роботали, куда отправили, туда и пошли. Ничего не понимали.
– Вы такую долгую жизнь прожили, чего в ней только ни было, может, о чем-то жалеете?
– Нет, не жалею. Жалей не жалей, теперь че? Как говорится, что упало, то пропало. Так прожили – свое хозяйство держали. Много мы не держали: коровенка там, подросточек, ну, курочек держали, гусей держали, уточек держали. В колхоз еще отправляли работать меня. Се успевала делать помаленечку, потихонечку.
– А вообще, много для счастья человеку надо: денег, вещей – или все это не так важно?
– А я не считала, мне хорошо было. Накормлены, напоены – и ладно. Обувались, одевались уж не по-хорошему. А где по-хорошему, где денег возьмешь? Только что продашь каку скотинку…
– И хватало всего?
– Да-а-а. Один раз в год вырастишь коровку, сдаешь ее за триста рублей – тогда дешевые были.
– Бабушка Валя, какая вы по характеру?
– Я? Вредная! (Смеемся.) Сяко бывало. Здесь с ребятишками заругаешься, горбушу стукнешь… Сяко было… Переживала.
– Вы оптимистка? Не унывали, наверное, никогда?
– Ну да, ну да… Не знаю, как сказать.
– А что вас радовало в жизни?
– Сему [всему. – Авт.] радовалась, хозяйству радовалась: и овечек держала потом, и корову. Корова отелится, теленочка надо выходить, доглядеть. Так вот и пошло, и пошло, и пошло, пошло.
Чем дольше мы беседуем с долгожительницей, тем тяжелее мне становится: о чем бы я ни спросила мою скромную собеседницу, почти все ее воспоминания и рассуждения сводятся к одному – хозяйству, трудам и заботам. Мы будто по кругу ходим. Неужели в ее длинной жизни ничего не было другого? Хватаюсь за соломинку – спрашиваю, была ли она когда-нибудь на море. И получаю ожидаемый ответ: