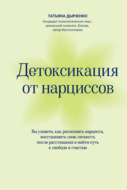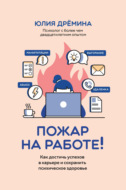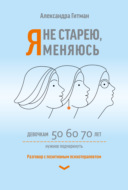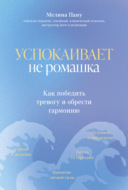Kitobni o'qish: «Открой рот. Проявляйся, говори и получи то, что хочешь», sahifa 4
«Мама мной довольна. Я хочу еще!»
Я аккуратно выглядываю из-за занавеса в зрительный зал. Там полная темнота, но она живая, зал битком. Не видно ни одного лица, но слышно дыхание, как люди переговариваются, шелестят. Мне 14. Где-то там, в глубине этого зала, сидит мама, она даже не подозревает, сколько у меня номеров в концерте, я даже в финальном танце участвую. Наша школа поставила большой концерт к годовщине Победы. После фразы «нет таланта» я много лет не привлекала к себе внимания. Ни учителей, ни родителей. Ни в одном кружке толком не прижилась, нигде не выступала, в школе училась неплохо, но без особой активности. От меня никто уже ничего не ждал, все мамины надежды на талантливого ребенка, видимо, рухнули, и я расслабилась. Я была самой обычной девочкой.
Пока со мной не случился конкурс чтецов. Такое забавное школьное мероприятие, где нужно выразительно, практически как актер, рассказать стих. Я выучила очень маленький, но завуч по культуре помогла мне его отрепетировать. От нее я узнала про интонации, эмоциональную окрашенность текста. И это оказалось так интересно! Я слушала свою наставницу, открыв рот. Удивительно, но выразительно прочитать стихотворение – это не совсем то, что педагоги обычно требуют у доски: громко, четко! Это вообще про другое. Оказывается, можно еще текст чувствовать, соприкасаться с ним, вложить совершенное разные эмоции с помощью интонаций!
После конкурса меня позвали в спектакль. Родители понятия не имели, что мы там репетировали и толком не спрашивали: все-таки 9-й класс уже, мало ли чем подростки в школе занимаются, не курит дочь где-нибудь за углом – уже неплохо. И вот настал этот день. День премьеры. Занавес открылся, и я вышла на сцену, столкнулась с этой живой темнотой.
Я думала, умру от волнения, настолько билось сердце, но слова не забыла – выступила! И как вознаграждение ощутила волшебство этого внимания, направленного на тебя. Все молчат, смотрят и слушают, а ты вкладываешь все, что у тебя есть, в свое присутствие на сцене.
Моя мама была в шоке и в полном восторге. Она махнула на меня рукой к тому времени – талантов я никаких не проявляла, отличница из меня тоже не получалась. Мама была слегка раздосадована всем этим – и вдруг такое ошеломительное выступление! Сейчас я понимаю, что оно произвело такой эффект потому, что мама сцены боялась как огня и для нее сама возможность выйти туда и не умереть от страха на месте уже была подвигом.
Сколько восхищения было в ее глазах, как она рассказывала о концерте своим коллегам, подругам! Я наконец-то оказалась в месте, где мама полностью мной довольна и ей достаточно, она гордится, она счастлива. Конечно, я это запомнила. Я хотела еще. Хотя тогда даже не осознавала этого.
Практическое задание. Травма фокуса внимания
Я предлагаю вам вспомнить самую яркую ситуацию в детстве или подростковом возрасте, когда вы впервые ощутили, что все внимание направлено на вас. Что это было? Семейный праздник, где вас поставили на табуретку, чтобы вы рассказали стихотворение, застолье, где над вами посмеялись родственники? Ситуация может быть связана и со школой или детским садом, где группа могла как-то отреагировать на вас.
Когда вы вспомнили ситуацию, воспроизведите в памяти все в деталях. Где находились вы? Где публика? Что происходило? Какие фразы звучали? Что вы чувствовали в тот момент? Был ли кто-то поддержавший вас тогда?
Однажды участница моей группы вспомнила безумное напряжение, когда в зрительном зале на утреннике сидела ее мама-перфекционист. Она поняла, что ее саму – девочку лет восьми – суть выступления вообще не волновала, больше всего она боялась ошибиться, упасть в грязь лицом перед мамой. Другая участница вспоминала ощущение жгучего стыда, когда за общим столом родственники громко посмеялись над ее случайной фразой. С одной стороны, она тут же стала центром внимания, с другой – всеобщим посмешищем.
Этот опыт можно проговорить с кем-то близким, выгрузить на бумагу и спросить себя, похоже ли то, что вы сейчас делаете в публичном пространстве, на ту ситуацию.
Что в этом опыте можно прожить иначе? Где можно вернуться в прошлое и сказать себе ободряющие слова? Кто это может быть – вы сами или выдуманный вами герой? Что это будут за слова?
«Не бойся совершить ошибку, это нормально!», «Идеально не бывает, пробуй!», «Они ничего не понимают, а ты сейчас беспомощен, но я-то знаю, как сильно ты нуждаешься в поддержке!», «Я с тобой!».
Кто говорил вам «Закрой рот!»? Сценарии поведения в семье
После волшебного младенческого слияния с мамой постепенно мы начинаем видеть других людей, мир вокруг, демонстрируем свои желания, реакции, интересуемся, начинаем говорить и постепенно все больше и больше ощущаем себя отдельными. У каждого ребенка есть свои собственные переживания, образы и слова, которыми он описывает реальность, говорит с близкими. Примерно на этой стадии и звучат впервые фразы: «Закрой свой рот», «Сейчас по губам дам», «Заткнись!». Иногда родители не проговаривают это, но своим поведением дают понять, что ты не должен говорить, показывать то, что чувствуешь.
Я провела опрос в своем блоге, и диапазон таких фраз заметно расширился. За каждым сообщением стоял ребенок, которому обещали «дать по губам», «вымыть рот с мылом», советовали «пожевать язык», «замолчать». Кто-то говорит это своим детям, кто-то слышит подобные фразы от начальства до сих пор. Во-первых, оказалось, фраза «Закрой рот!» – это проблема общения и между взрослыми. Во-вторых, всплыла тема материнской вины от мам, которые понимают, что так делать не стоит, но срываются. В-третьих, слоган «Закрой рот!» относится к целому ряду психологических проблем, а не только к теме «запрет на проявление». Давайте по порядку.
Неудобная правда
«Хотите понять, что происходит в семье на самом деле, – смотрите на детей и животных» – любимая фраза многих психологов. Действительно, то, что взрослые усиленно прячут и маскируют порой через нечеловеческое напряжение, дети легко демонстрируют, как, например, в следующих историях.
● Мама мне говорила: «Ты щас договоришься!», и если я продолжала, могла и по губам дать. Бабушка: «Ой, какой язык поганый…» – и укоризненно качала головой. Тетя… А сейчас мне так говорит муж-абьюзер, после того как дал волю рукам, – «потому что язык у тебя длинный».
● Папа говорил: «Закрой рот!», когда аргументы приводила. Бабушка говорила. Помню, меня это так оскорбляло, было внутреннее ощущение ничтожества, а аргументы были по делу.
● Мама в детстве часто грозила: «Щас по губам дам/получишь» за правду, которую я говорила, а она слышать не хотела. Потом стала давать по губам – помню, один раз даже на улице со всей дури влепила мне. Обида сидела очень долго, но я не заплакала, а просто перестала разговаривать. Сейчас и моей дочери говорит: «А по губам?» Меня аж трясти начинает!!!
● Мама говорила: «Закрой рот!», и брат повторял за ней. Ощущения: ком в горле, даже сейчас, когда вспоминаю. В детстве – обида, слабость. Эти фразы лишают силы, и разозлиться даже трудно. И еще они заставляют усомниться в собственной адекватности: может, правда я говорю что-то максимально недопустимое/глупое/вру и вообще ничего не понимаю?
Одна из причин острого желания родителя сказать «Закрой свой рот» – это невозможность выдержать то, что говорит ребенок. Дети часто озвучивают то, что в семье замалчивается, называется другими словами, о чем избегают говорить. Важный признак проблемной семьи – это «разговор, который никогда не состоится». Когда есть какая-то острая тема, конфликт, страшная тайна, невысказанные претензии, но говорить об этом нельзя ни при каких обстоятельствах. И участвуют в этом бессознательном сговоре все взрослые. Порой по им самим непонятным причинам. Например, в семье ни у кого нет опыта эмоционального проживания горя: когда можно наплакаться вдоволь, наговориться о потере без стыда, ограничений, можно злиться, вспоминать грустное, смешное, разное. И тогда все взрослые будут стараться лишний раз не говорить, изо всех сил держаться и не плакать, ни в коем случае не брать детей на похороны, с головой уходить в заботы, лишь бы с горем не соприкасаться, уклончиво отвечать на прямые вопросы, избегать их. Дети будут чувствовать это, спрашивать, «как назло», подсвечивать то, что так хочется замазать. Детская психика, пока еще живая, естественная, чувствительная, мгновенно улавливает фальшь.
Через два месяца после смерти мамы (бабушки моих детей) в детском саду проходил утренник. И как назло, именно для бабушек придумали конкурс. И вот представьте: две почтенные дамы сидят на стульчиках, плетут наперегонки бусы из пластмассовых шаров, а мой младший сын Егор (ему пять) очень громко и как-то так искренне произносит: «А моя бабушка умерла!» И разводит руками разочарованно. Возникает заминка, потому что девочка рядом с ним тут же забыла про все конкурсы и с неподдельным интересом включилась в диалог: «Прям умерла? Да?» Этот интерес и любопытство не сыграешь: она была готова погрузиться в тему, подумать и порассуждать о ней. И тут ряды родителей взорвались от хохота, кто-то даже сказал: «Ну это прям шутка для Камеди». Понимаете? Конечно, взрослые не знали, умерла бабушка два месяца назад или два года, но все равно их реакция меня поразила. В смехе чувствовалось напряжение. Знаете, когда хочется побыстрее уйти от какой-то невыносимой темы, часто начинается засмеивание и хихиканье – любимая психологическая защита. Потому что смерть и горе – одна из тяжелых и часто запретных тем.
К запретным темам относятся еще разводы, зависимости домочадцев, измены или двойная жизнь родителей, насилие в семье, неразрешенные конфликты и многое-многое другое. Порой взрослые создают какую-то вымышленную конструкцию из своей жизни, а ребенок в ней становится неудобным, внезапно начинает говорить то, что все время как будто остается за скобками, реагировать, включаться. А взрослые не знают, что с этим делать, не умеют, не справляются и хотят просто нажать кнопку пульта и выключить канал, где говорят лишнее. Например, папа ежедневно довольно сильно выпивает, мама с ним ссорится, но на вопросы детей отвечает: «У нас все хорошо, мы с папой друг друга любим, не выдумывайте лишнего». Или в семье нельзя обсуждать каких-то родственников, сводных братьев и сестер, принято делать вид, что их не существует.
Что остается в этот момент у ребенка в душе? Как в сообщениях выше – «ощущение ничтожества», обида, нежелание разговаривать. Ребенок остается с этим невыносимым камнем переживания внутри, который никак нельзя переработать. Если бы взрослые могли отреагировать, поговорить, признать, что происходит что-то важное, был бы шанс, а так неудобная правда, эмоции и мысли остаются на долгие годы запакованными в маленьком теле маленького человека, а потом отправляются с ним во взрослую жизнь. Каким сценарием в публичности это потом может обернуться? С одной стороны, постоянный страх сказать что-то лишнее, что поставит других в неловкое положение, страх говорить вслух то, что по-настоящему чувствуешь и думаешь. Обычно такие люди хорошо работают по сценарию, выступают по заготовленным презентациям и обезличенным текстам, но эмоционально обкрадывают свои выступления, обедняют их, а какая-то внезапная ситуация и необходимость говорить от себя может ввести их в ступор. Бывает и другой вариант: человек, наоборот, строит свою публичность на разоблачениях, на нарочито ярко показанной неудобной правде о чем-то. Думаю, вы знаете немало таких примеров среди блогеров.
Если вы узнали себя в этом сценарии:
1. Ваша задача – в первую очередь найти те самые запретные и «непереваренные» камни в своей психике. Лучше всего делать это с психотерапевтом, но можно и поговорить с близкими об этом, выделить себе время повспоминать происходящее, найти атрибуты, связанные с «потерянной» частью личной истории.
Почему я рекомендую делать это вместе со специалистом? Дело в том, что «слепые пятна» в психике редко связаны с чем-то радостным. Скорее всего, это будут истории непрожитого горя, противоречивых чувств к одному из родителей, которые нельзя было испытывать, или было сложно понять, что происходит. Все эти узлы придется развязать и назвать вещи своими именами, чтобы напряжение ушло. Все недостающие элементы пазла придется поставить на свое место. Если эти узлы не развязать, никакие упражнения вам не помогут, вы бессознательно будете избегать воспоминаний, которые прямо или косвенно соприкасаются с темой «слепого пятна».
2. Обратите внимание на то, какие темы для вас запретны, чего вы всегда избегаете в разговорах, в текстах выступлений, в общении с подписчиками.
3. Придется поработать с привычкой «редактировать себя». Данный сценарий в детстве приводит просто к филигранной саморедактуре: вы можете отсекать самые яркие куски впечатлений, рассказов, личных историй только потому, что они относятся к запретному для вас спектру эмоций. Поэтому важно будет тренировать навык говорить то, что в данный конкретный момент очень для вас важно, говорить свою правду, даже если она не найдет отклика у окружающих.
«Не злись!»
Множество историй, связанных с фразами «Закрой рот» или «Замолчи», в действительности оказываются попыткой запретить выражение каких-либо чувств. Как в этом сообщении от подписчицы:
В детстве я не помню, чтобы мне говорили эту обидную фразу («Закрой рот»), ну или она могла быть сказана другими словами, менее злыми или агрессивными. Сейчас, будучи уже мамой, «в запале» пару раз говорила дочке: «Замолчи, пожалуйста!» – в ответ на ее бесконечные обвинения. Но вот недавно услышала эту фразу от мужа: он так пытался остановить мои высказывания. Я с ним два дня не разговаривала, не могла отпустить обиду и даже злость, которая поднялась на его тон и эти грубые слова, да еще сказанные в присутствии ребенка. Вывод: всегда нужно эту фразу заменять другими словами и другим тоном, потому что она очень сильно обижает, ранит и даже унижает другого человека – неважно, взрослый это или ребенок.
Помимо невыносимой правды для родителей есть невыносимые эмоции. И резкое «Закрой рот» часто является синонимом «Я не хочу сталкиваться с этим чувством!». Самая невыносимая из эмоций – это злость. Злость, вина, беспомощность, зависть – все это может ощутить родитель рядом со своим ребенком. Дети очень искренне злятся и хотят. Они желают страстно, упорно, настойчиво. И тут важно, что у них в принципе есть то, чего часто уже давно нет у взрослых, – желания, а к тому же – довольно большой запас энергии на их осуществление. Там будет и азарт, и любопытство, и злость, и ярость, и упорство. Хорошо, если родитель просто устал и сорвался, сказав в сердцах: «Замолчи уже!» Хорошо, если этот родитель не потерял связь со своими желаниями, знаком со своей злостью – тогда он найдет силы извиниться перед ребенком и проговорить ситуацию.
А если мы имеем дело с родителем, который давным-давно забыл про свои желания, для кого злость – это что-то постыдное и страшное? Тогда картина будет весьма печальной. Его слова «Закрой рот» будут сигналом к тому, что желать и злиться очень плохо. Зависть тоже попадет в команду запрещенных эмоций. Это не всегда просто признать, но родители могут завидовать своим детям. Для этого достаточно иметь свое трудное детство и видеть, как по сравнению с маленьким тобой живет твой ребенок (и еще смеет при этом быть недовольным!). Но признать зависть тоже страшно и стыдно, она ведь считается «плохой» эмоцией, которую срочно нужно куда-то трансформировать. А это совершенно необязательно. Как только зависть признается нормальным чувством, которое можно испытывать и искать через нее незакрытые потребности (а можно, кстати, и не искать, а просто завидовать), она перестает быть чудовищем, которое поджидает за дверью.
Если вы узнали себя в этом сценарии:
1. Придется начать дружить с «плохими» эмоциями. Более того, вам точно пригодится навык их отслеживать и смотреть, что происходит с вами в моменте: рушится ли мир от того, что вы разозлились, становитесь ли вы страшным человеком, если завидуете?
2. Скорее всего, проявляя запрещенную когда-то эмоцию, вы будете прежде всего бояться ответной реакции, наказания в ответ. И это ощущение нужно будет отслеживать в себе. Кроме того, в таких сценариях часто включаются системы самонаказания. Проявив злость, вы можете потом «совершенно случайно» порезать палец, забыть про очень важную для вас встречу, потерять любимую вещь. Уже нет никого рядом, кто может накричать или наказать, но бессознательное по привычке отлично справится само.
3. Чуть позже я подробнее расскажу о личной карте эмоций и способах работы с ними.
«Я здесь главный!»
У меня папа просто начинал орать как резаный, если я высказывала свое несогласие с чем-то или пыталась спорить. Он сразу кричал: «Рот свой закрыла! Кто тебя спрашивал?!» Или: «Жопе слова не давали!» Сейчас мне смешно, а тогда было страшно; понимаю, что меня тупо подавляли этим и указывали мне место. До сих пор боюсь, когда на меня кричат.
Закрыть рот часто требуют родители, которые не могут выстроить отношения с детьми и только напором, криком способны показать свою власть и обозначить иерархию в семье. Это родитель, который в моменте не справляется, не выдерживает, не знает, как это сделать по-другому. И он начинает орать. Знаете, если вы родители и сейчас это читаете, не надо сразу рвать на себе волосы от чувства вины. Ничего смертельно опасного в самом по себе крике нет. Более того, когда ребенок видит, что родитель кричит, он понимает, что его родитель живой и, наверное, он сильно разозлился. Для ребенка это оказывается одним из способов познания мира взрослых. Опасным крик становится, когда родитель теряет контроль над собой и начинает сыпать оскорблениями, угрозами. Такой натиск невыносимо тяжел для ребенка (да и для другого взрослого тоже). И здесь всегда вопрос к тому, кто кричит: что с тобой происходит сейчас? С чем ты не справляешься? В 99 % случаев вы упретесь в перегруженность нервной системы и психики, очень сильную усталость или… травму. Показать свое место в иерархии через отношения, разговоры, контакт с чувствами – это высший пилотаж. Показать свое место через крик, демонстрацию силы и подавление – путь более понятный и простой, хорошо знакомый из собственного детства, поэтому для многих родителей это единственная доступная стратегия.
Если вы узнали себя в этом сценарии:
1. Первый шаг – опознать, обнаружить в себе и признать: «Да, в моей семье было так, через крик родители показывали свою власть: кто громче кричал, тот и был прав. Мне сложно, больно это вспоминать и признавать. Я бы очень хотел/хотела, чтобы это было иначе, но изменить прошлое я уже не могу. Я злюсь, что было так, мне грустно, что было так, невыносимо вспоминать многие моменты». Это осознание займет определенное время. Вам придется отгоревать то, что вы поняли и увидели в детстве, попрощаться с теми иллюзиями, фантазиями, которые вы хранили как детские воспоминания. Вы столкнетесь с разными чувствами: злостью, бессилием, грустью – но это уже половина успеха.
2. Вам предстоит отследить ситуации, когда вы хотите повести себя таким же образом. Не разрешать ситуацию, а надавить, «прессануть», наорать. В эти моменты стоит задать себе вопрос: «А хочу ли я делать такой выбор сейчас? Что я сейчас чувствую? С чем не справляюсь?»
3. Если вы не хотите повторения этого сценария, придется учиться строить отношения, разговаривать с людьми, объяснять свою позицию, свое негодование.
4. Самое главное: рядом с теми, кто показывает, что он якобы прав, через крик, вы, скорее всего, будете чувствовать себя маленьким, вжимать голову в плечи и автоматически сдаваться и подчиняться. Мгновенно эти реакции не меняются, их нужно отслеживать и наблюдать. Теперь, когда вы уже не ребенок, только вы решаете, оставаться ли вам работать рядом с человеком, который постоянно кричит. Вы можете начать об этом разговаривать: просить не делать так больше, обозначать свои границы, в конце концов – если диалога не получается – заканчивать такие отношения.
5. Побочный эффект этого сценария – привычка бояться открытой агрессии, открытого проявления злости в принципе, вытеснять собственную злость. И ее тоже придется доставать из глубины, учиться обходиться с этой эмоцией, как играть на инструменте, который давно пылился в шкафу и вот вы пытаетесь его освоить. Важно понимать, что злость – это не только стремление подавить кого-то, злость – это еще и то, что обеспечивает здоровую регуляцию границ, да и вообще весьма полезная и важная эмоция.
Bepul matn qismi tugad.