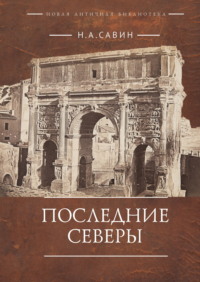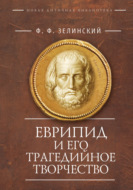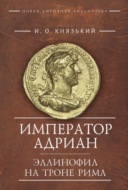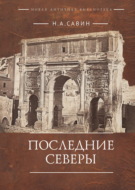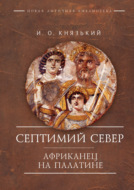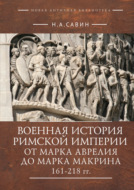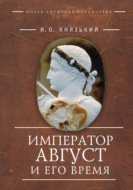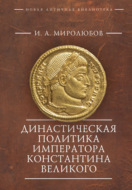Kitobni o'qish: «Последние Северы»

Новая античная библиотека. Исследования

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© Н.А. Савин, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025
Введение
Династия Северов была прервана смертью императора Каракаллы в апреле 217 года. Захвативший власть префект претория Макрин не имел к Северам никакого отношения. Однако, новому императору не удалось стать основателем новой династии, хотя он и старался. Макрин не оценил степени симпатий к Северам и Каракалле, в частности, в армии, среди аристократии и в широких кругах простого народа, а также уважения к Северам среди народов, окружавших Империю. Кроме того, сам Макрин не оправдал надежд и явно не справлялся с обязанностями императора. Прошло всего чуть больше года, как среди сирийских войск началось восстание, которое быстро привело к поражению и гибели Макрина, и возвращению к власти тех же самых Северов, только на этот раз в лице представителей женской сирийской линии династии. На престол империи взошёл племянник Каракаллы Антонин Гелиогабал.
Этими событиями заканчивалась наша предыдущая книга о военной истории Римской империи, которую мы теперь продолжаем, поставив себе задачу рассказать об истории правления последних двух представителей династии, или, если быть более справедливым, женской части семейства Северов во главе с Юлией Месой, Юлией Соэмией и Юлией Мамеей. Изначально, это была попытка вернуть власть династии Северов, поддержанная армией, не желавшей долее терпеть узурпацию Макрина, выражавшего интересы гвардии и второго уровня придворных кругов, как бы Макрин ни старался поладить с сенатом и нобилитетом.
Напомним, что к моменту свержения Макрина, огромная римская армия стояла в восточных провинциях империи, удерживаемая там проблемами мира с Парфией, мятежами провинциалов и неустойчивостью власти. Там же находился и императорский двор со всеми службами. Возвращение европейских войск на места их постоянной дислокации и императорского двора в Рим было главной задачей нового правительства. Макрин не успел сделать этого, что, возможно, сыграло роковую роль в его судьбе. Необходимо было, также, восстановить единую вертикаль власти, успокоить мятежи, восстановить экономику империи и снять проблемы с соседями Рима. Теперь эти задачи предстояло решить правительству Юлии Месы.
История вопроса
Времена последних Северов – крайне трудный для изучения период римской истории. Объясняется это как минимальным количеством и низким качеством наших первоисточников, так и противоречивостью характеров обоих последних императоров династии, и сложностью политических обстоятельств, в которых они действовали. Что до первоисточников, то число их можно пересчитать по пальцам одной руки, при этом они не только малоинформативны, но и спорны. Самым объёмный из имеющихся у нас источников – это сборник «Авторы жизнеописаний Августов» – АЖА (Scriptores Historiae Augustae), где две из глав, написанных Элием Лампридием, посвящены Гелиогабалу и Александру Северу. Существует множество вопросов о данном источнике, например, о его датировке (сами авторы относят его ко временам Диоклетиана и Константина), которая могла бы более точно определить мотивы написания работы, или о самом авторстве (как указано в источнике – это сборник сочинений шести людей, но ни один из них более никак не известен). Сборник явно пристрастный политически и явно выражает мнение сенатской аристократии. Многие сюжеты и материалы сборника кажутся неправдоподобными, некоторые явно ошибочны, но некоторые, считавшиеся выдумкой, впоследствии подтвердились или были признаны таковыми. Так что споры о качестве текстов АЖА ведутся до сих пор.
Куда более авторитетным источником считается «Римская история» Диона Кассия, бывшего современником династии Северов. Однако, настоящий полный текст о временах последних Северов до нас не дошёл, а то, что дошло в выдержках византийца Ксифилина, крайне неполно и изобилует лакунами. Да и сам Дион, будучи в хороших отношениях с Александром Севером, явно тенденциозен в изображении своего покровителя, да и с Гелиогабалом осторожен. Куда более, чем с Каракаллой, например. Сенатская позиция Диона тоже не способствует объективности источника.
Третьим из основных источников является «История императорской власти после Марка» Геродиана, современника событий, выходца из Сирии, однако занимавшего лишь мелкие административные должности. Работа не точна по хронологии, автор не знает многих аспектов политики верхов, да и многих деталей, ведь он не был вхож в императорский дворец, но зато работа улавливает разнородность политических настроений, особенно на нижних этажах империи, а автор не зависит от утвердившейся конъюнктуры и может более правдиво показать картину происходившего. Однако, и этот источник весьма краток.
Ещё о последних Северах есть очень лапидарные фрагменты у Зосима, Секста Аврелия Виктора, Евтропия, Орозия и некоторых других авторов. Практически ничего нового они не дают.
Есть материалы эпиграфики, монеты, археологические материалы, элементы архитектуры и искусства, которые сильно помогают в восстановлении объективной картины событий и жизни того времени, но, всё же, не могут заменить нарративные источники.
Вот и всё, что мы имеем. Именно поэтому современная наука довольно редко обращается ко временам последних Северов. Кроме беглого рассказа в рамках трудов, посвящённых общей истории Римской империи, есть лишь несколько специализированных монографий биографического характера. Писали о последних Северах Э. Гиббон, Дж. Буркхардт и Дж. Фрезер. Тогда, по поводу Гелиогабала, на первый план выступил аспект, который доминировал в XIX и начале XX века: идея его специфически восточного деспотизма. Этот аспект был особенно характерен для Альфреда фон Домашевского. В то время часто говорили о культурной победе восточного варварства над традиционным римским достоинством и добродетелью.
В начале XX века оценки Гелиогабала изменились в соответствии с общей тенденцией гиперкритицизма и недоверия к античным источникам. Первой объемной биографией его была «Удивительный император Гелиогабал» (1911) Дж. Стюарта Хэя, серьезное и систематическое исследование, более сочувственное, чем у предыдущих историков, которое, тем не менее, подчеркивало экзотичность Гелиогабала, называя его правление периодом «огромного богатства и чрезмерной расточительности, роскоши и эстетизма, доведенных до предела, и чувственности во всех утонченных восточных привычках».
Писал о Гелиогабале французский писатель, поэт, драматург, театральный деятель и философ Антонен Арто (1934). Его роман «Гелиогабал – коронованный анархист», это повесть о природе тотальной власти. Напомним, что это было время триумфа фашизма и нацизма со всеми их ответвлениями. Арто не скрывает своего восхищения тираном-первертом, тотальная власть которого, по мнению автора, идет нет отличной злой воли, а от самой стихии солнечного света, из которой рожден Гелиогабал, богочеловек, соединяющий в себе мужское и женское начала.
В 1955 году Максимилиан Ламбертц, автор статьи об Гелиогабале в Realencyclopadie der Classic Archaeology, пришел к выводу, что Гелиогабал всегда был управляемым женщинами мальчиком, не мужчиной, а только орудием волевой бабушки.
В 2014 году вышла хорошая книга Клауса Альтмайера о Гелиогабале (Элагабал: Римский священник-император и его время). Этот труд наиболее взвешенно подходит к источникам, но, в целом, Альтмайер ищет постоянных оправданий поступкам и поведению Гелиогабала.
Лучшей на сегодняшний день биографией Гелиогабала, стала, вышедшая в 2022 году книга бывшего оксфордского историка и современного писателя Гарри Сайдботтома «Безумный император», ставшая книгой года по версии The Spectator, BBC History Extra и Financial Times. Сайдботтом прекрасно разобрался во всех аспектах характера и деятельности Гелиогабала и правительства Месы и написал высокопрофессиональную и литературно красивую историю правления этого императора. Ему удалось избавиться от гиперкритицизма в отношении источников и не допустить оправдания гомосексуальных извращений Гелиогабала в угоду современной западной конъюнктуре.
А она к XXI веку, привела к откровенному оправданию и восхвалению Гелиогабала. Так, Мартин Икс в «Образах Элагабала» (2008 г.; переиздано как «Преступления Элагабала» в 2011 и 2012 гг.) сомневается в надежности древних источников и утверждает, что именно неортодоксальная религиозная политика императора оттолкнула правящую элиту Рима до такой степени, что его бабушка сочла целесообразным устранить его и заменить двоюродным братом. Он назвал античные истории, относящиеся к императору, частью долгой традиции «ассасинации характера» в древней историографии и биографии».
Леонардо де Аррисабалага-и-Прадо в книге «Император Элагабал: факт или вымысел?» (2008), также критикует древних историков и предполагает, что ни религия, ни сексуальность не сыграли роли в падении молодого императора. Вместо этого Прадо предполагает, что Гелиогабал проиграл в борьбе за власть внутри императорской семьи, что лояльность преторианской гвардии была выставлена на продажу и что у Юлии Мезы были ресурсы, чтобы перехитрить и перекупить своего внука. В этой версии событий, как только Гелиогабал, его мать и его ближайшее окружение были убиты, началась кампания по убийству их репутации, в результате чего возникла гротескная карикатура, сохранившаяся до наших дней. Но, правда, другие историки, в том числе Икс, критиковали Прадо за чрезмерный скептицизм в отношении первоисточников.
Уорик Болл в своей книге «Рим на Востоке» пишет извиняющий отчет об императоре, утверждая, что описания его религиозных обрядов были преувеличены и их следует отвергать как пропаганду, подобно тому, как отвергаются языческие описания христианских обрядов. Болл описывает ритуальные обряды императора как разумную политическую и религиозную политику, утверждая, что синкретизм восточных и западных божеств заслуживает скорее похвалы, чем насмешек. В конце концов, он изображает Гелиогабала как ребенка, вынужденного стать императором, который, как и ожидалось от верховного жреца культа, продолжал свои ритуалы даже после того, как стал императором. Болл оправдывал казни Гелиогабалом видных римских деятелей, которые критиковали его религиозную деятельность. Наконец, Болл утверждает духовную победу Гелиогабала в том смысле, что его божество будет приветствоваться Римом в форме Sol Invictus 50 лет спустя. Болл утверждает, что Sol Invictus оказал влияние на монотеистические христианские верования Константина, утверждая, что это влияние сохраняется в христианстве и по сей день.
Такая критика источников, которую некоторые исследователи, в том числе и мы, считают преувеличенной, означает, что многие утверждения в нарративных источниках отвергаются как сомнительные или неправдоподобные, а совокупность фактов значительно сокращается. В результате на первый план выходят археологические источники. А ведь, несмотря на свою ценность, они могут дать лишь очень ограниченную картину. Фактически огульное отрицание правдивости античных источников не даёт науке ничего, кроме вреда и искажения истории. Понятно, что к первоисточникам надо подходить критически и осторожно, но, всё же, в основу отношения к ним стоит положить базовое доверие к искреннему желанию автора сохранить и донести читателям правду. В древности письменное слово было весьма трудоёмким, дорогим и уважаемым, чтобы сочинять откровенные небылицы, рискуя прослыть лжецом. Так что мы будем опираться на античные первоисточники достаточно уверенно, предполагая, что в своей основе они правдивы. Конечно, источники необходимо подвергать любой возможной проверке и анализу, привлекая эпиграфику и археологию, на базе чего построить непротиворечивую концепцию эпохи.
В отличие от Гелиогабала, Александр Север многие столетия рассматривался Римской, а затем европейской историографией, как идеальный правитель. Даже в XVIII веке все еще преобладал традиционный образ мудрого, добродетельного, гуманного и любимого народом правителя, нарисованный Historia Augusta, который поддержал Эдвард Гиббон. В последние столетия занимались Александром Севером, в основном, немцы. Якоб Буркхардт находился под сильным влиянием старой традиции и писал в 1853 году, что Александр был «истинным святым Людовиком древности», который сопротивлялся «бесконечному множеству соблазнов деспотизма», и «вступил на путь справедливости и милосердия». Этот «непонятый человек в столетие, которое знало только страх», не смог завоевать уважения, но неизбежно потерпел неудачу.
Однако с XIX-го века возобладала неблагоприятная оценка Александра, подчеркивающая его роковую несамостоятельность и отсутствие решимости. Сокрушительный вердикт вынес Альфред фон Домашевский (1909). Он назвал Александра «плачевнейшим из всех цезарей». Во время его правления «последнее подобие порядка в империи исчезло», следствием ошибочной политики стал «полный крах всего административного строя». Эрнст Корнеманн (1939) считал, что «слабый, так и не достигший зрелости» Александр был несправедливо превращен в «светящуюся фигуру со странным ореолом». Вильгельм Энслин (1939) отметил, что молодой император не смог выполнить свою задачу, поскольку, несмотря на свое имя, он не был ни (Септимием) Севером, ни Александром (Великим). Альфред Хойе (1960) охарактеризовал Александра как «незначительного, но, по крайней мере, безобидного молодого человека, который «так и не превратился в мужчину». Для Германа Бенгтсона (1973) Александр был «слабым, посредственным правителем, который не сделал ничего выдающегося ни в политической, ни в военной области»; для его правительства «было характерно женское начало». Карл Крист (1988) также указывает, что Александр «в принципе никогда не достигал полной независимости». Твердости и напористости ему не хватало, он мог «только лавировать от одного кризиса к другому». Бруно Блекманн (2002), который называет Александра «маменькиным сынком», считает, что приход к власти Мамеи следует объяснять не правлением восточных женщин, а просто тем, что «император так и остался ребёнком». Хотя Александр, возможно, и принимал собственные решения в последние годы своего правления, его отказ предоставить солдатам ожидаемые денежные подарки был выражением нереалистичного отношения и, учитывая временные обстоятельства, был фатальной ошибкой.
Герберт Бенарио относит нестабильность положения Рима и начало кризиса именно несамостоятельности Александра и ключевому влиянию на него женщин, приведшму к неграмотной внешней политике [Benario, Herbert W., Alexander Severus (A.D. 222–235). URL: http://www.roman-emperors.org/alexsev. htm (дата обращения: 17. 06. 2015)].
Польский исследователь А. Кравчук считает Александра противоположностью двоюродного брата Гелиогабала в личных качествах, но тем не менее, тоже не склонен рассматривать императора как независимую политическую фигуру. На протяжении всего правления он пользовался помощью не только матери, но и ближайших помощников – Ульпиана, императорского совета, «специального органа из шестнадцати советников» [Кравчук А. Галерея римских императоров ⁄ А. Кравчук. – М., 2009. с.489].
Александр делал ставку на помощь угасающей аристократии и отдалялся от набирающей силу армейской элиты, что и предрешило судьбу. Этой линии придерживается ученый Кандучи [Canduci. Alexander, Triumph & Tragedy: The Rise and Fall of Rome's Immortal Emperors / Canduci. – 2010. – Pier 9. s.61].
А вот исследователь Сотерн снимаете Александра обвинения. Он высказывает мысль, что правление Александра в целом было весьма благополучно, но возродившаяся Персидская держава и натиск германцев расшатали политическое равновесие, это, в свою очередь, со смертью императора вылилось в полномасштабный кризис. [Southern, Pat. The Roman Empire from Severus to Constantine / P. Southern. – Routledge, 2001. s.61].
Дж. Б. Кэмбелл уделяет внимание вопросу взаимоотношения Александра и армии. Так, принцепс сделал многое, чтобы обеспечить и улучшить права солдат: подтвердил, что воины могли назвать кого угодно в качестве наследников завещании, [Campbell, J.B., The Emperor and the Roman Army 31 BC – AD 235 / J. B. Campbell. – Clarenden, 1984. s.221] могли освобождать своих рабов [s. 224], была обеспечена правовая база неприкосновенности личного имущества солдата, проходящего службу [s. 237].
Весьма удачной оказалась биография Александра Севера, написанная британским учёным Джоном Макхью. Вероятно, она является лучшей и самой полной на сегодняшний день. Оценка автором Александра сбалансирована, лишена субъективности и опирается на серьёзные данные и основания. В труде разобраны буквально все аспекты деятельности Александра и его правительства.
В отечественной историографии, несмотря на достаточно противоречивый материал источников, личность находившегося у власти ни много ни мало 13 лет Александра Севера в историографии до сих пор комплексно не рассматривалась.
С. И. Ковалев выразил мысль о получении принцепсом прекрасного образования, позволившего молодому человеку осмыслить ответственность за занимаемый пост. И, все же, природная мягкость и слабоволие не дали ему выйти из-под влияния властных женщин [Ковалев, С. И. История Рима ⁄ С. И. Ковалев. – Л., 1948.-с. 646].
В. И. Кузищин придерживается точки зрения, что «царственный подросток не мог управлять государством, да и в более зрелом возрасте не испытывал подобного желания» [Кузищин В. И. История древнего Рима ⁄ В. И. Кузищин, И. А. Гвоздева. – М., 2010. – с. 284]. Политическая же деятельность 222–235 гг. неразрывно связывается с личностью матери императора Юлией Мамеей, которая была фактической правительницей и осуществляла стабилизацию внутреннего и внешнего положения империи.
Е. В. Федорова характеризует принцепса как небезыдейную силу, которая смогла не только реставрировать порядки, бывшие до Гелиогабала, но ввести множество разнообразных и полезных законов, примирить все общественные слои. По личным качествам это был добродетельный человек, к тому же – весьма талантливый – и в рисовании, и в спорте, и в музыкальных изысканиях [Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах ⁄ Е. В. Федорова. – М., 1979., с. 222]. Лишь скабрезность матери настроила против него легионы, отплатившие сполна всей династии.
Кратким, но достаточно сбалансированным исследованием последнего времени можно считать статью Гусева К.Д. «Правление и личность Александра Севера как проявление «скрытого кризиса III века».
Такова общая база, на основе которой написана наша книга. Надеемся, что она несколько освежит скудный отечественный материал и будет интересна любителям истории.
Часть I
Извращенец на престоле (213–222 гг.)
Глава 1
Начало правления
Восстановление династии Северов происходило в провинции Сирия. Вкратце напомним обстоятельства этого дела. Восстание против императора Макрина, фактического убийцы Антонина Каракаллы, началось в Эмесе, а организатором его стала Юлия Меса, вдова Гая Юлия Авита Алексиана, который был легатом Реции, консулом-суффектом и дуксом при Септимии Севере, а при Каракалле стал проконсулом провинции Азия, сопровождал императора в Месопотамии и стал советником наместника Кипра, где и умер незадолго до описываемых событий в 217 году [Дион Кассий, 80, 3,2].
Юлия Меса имела весьма знатное происхождение. Она была старшей дочерью Гая Юлия Бассиана, первосвященника Храма Солнца в Эмесе. Храм был посвящён сирийскому и арамейскому богу солнца Эль-Габалу (аналог финикийского Баала). Мы знаем, как храм выглядел, по тогдашним монетам. Архитектура храма была полностью греческой. Он был установлен на подиуме, к которому вел лестничный пролет. Вход был обрамлен шестью колоннами, которые поддерживали высокий фронтон. Внутри находился чёрный камень конической формы, олицетворявший бога Эль-Габала. Культ Баала в Эмесе контролировался жрецами-правителями княжества, род которых происходил от арабского шейха Сампсикерама и его сына Ямблиха, (Страбон XVI, II, 10) даже после включения княжества в состав провинции Сирия при Домициане. Так что Бассиан был не только жрецом, но и князем-правителем.

Изображение храма Эль-Габала и чёрного камня на монете
Эмеса в то время во многих отношениях выглядела так, как будто это был типичный греческий город под властью римлян: он перенял достаточно греческой культуры, чтобы считаться полностью эллинизированным. Все надписи, найденные в окрестностях, а их более семисот, написаны на греческом языке, как и надписи на монетах, выпущенных городом. Это не было обязательным условием. В Пальмире, расположенной в 130 км. к востоку, но тесно связанной с Эмесой караванной торговлей, многие надписи были на местном языке. На западе Сидон и Арка чеканили монеты на финикийском языке в том же III веке нашей эры.
Эмеса получила статус римской колонии либо от Септимия Севера, либо от Каракаллы. С 212 года, после принятия Конституции Антонина, все свободные жители города стали римскими гражданами и, таким образом, получили все права. Из гражданской чеканки монет мы знаем, что в Эмесе проводились игры с безупречно греческими названиями: Пифийские и Элейские. То, что известные романисты Ямвлих (вероятно) и Гелиодор (несомненно) были родом из Эмесы, указывает на развитый уровень греческой культуры в этом городе.
Культ Элагабала известен очень плохо, однако ничто из того, что мы о нём знаем, не соответствует тому, что позже продемонстрировал император Гелиогабал. Это был местный культ, давным-давно эллинизированного бога Солнца, странноватый для европейцев, но не более того. Никаких явных отклонений от принятой в империи морали за культом не было замечено. Мы знаем, что когорта эмесенских лучников построила храм Элагабалу, когда разместилась гарнизоном в Интерцизе в Паннонии. В Эль-Кантаре в Египте другое подразделение из Эмесы посвятило храм Солнцу Непокоренному. Гай Юлий Авит Алексиан, дед Гелиогабала по материнской линии, построил алтарь своему «богу предков», когда управлял Рецией. Серия надписей из римского района Трастевере идентифицирует некоего Тиберия Юлия Бальбилла, скорее всего, выходца из Эмесы, как жреца Элагабала. Последняя надпись Бальбилла датируется 215 годом.
И ничего. Никаких нарушений закона, человеческих жертвоприношений, никакого гомосексуального разврата нигде не зафиксировано. Так же, как и никаких попыток миссионерства и экспансии. Вместо этого люди из Эмесы спокойно служат или живут в разных провинциях империи и привозят с собой своего бога. За исключением редких случаев. Так, в правление Адриана некто Луций Теренций Басс, знаменосец когорты III Breucorum, сделал надпись Солу Элагабалу, когда служил в Нижней Германии. Бревки жили и вербовались в Паннонии. Теренций мог быть эмесенцем-одиночкой, служащим в подразделении бревков далеко от дома – что возможно. А мог быть бревком, в силу каких-то жизненных обстоятельств принявшим чужую веру. В общем, он кажется исключением, подтверждающим правило, что эмесенскому богу поклонялись лишь сами эмесенцы. Когда Гелиогабал перенес своего бога в Рим, подавляющее большинство жителей империи за исключением самих эмесенцев и случайных Теренциев, никогда не слышали о черном камне Элагабала. Впрочем, нельзя принижать уровень развития коммуникаций в императорском Риме. Вот второй случай. Надпись, найденная в амфитеатре Тарраконы в Испании, относится ко второй половине 218 года и описывает своего корреспондента как Sacerdos Amplissimus Dei Invicti Solis Elagabali: «Верховный жрец Непобедимого Солнца Элагабала». А ведь Гелиогабал только что стал императором.
К описываемому времени 52 % известных нам сенаторов имели неиталийское происхождение. Менее цивилизованные провинции давали малое количество сенаторских родов. Так, Британия пока не дала ни одного, Мавритании – троих, зато много дали Галлия, Испания, Африка и Восток. Многие из первых сенаторов с Востока, будучи потомками династий упраздненных царств-клиентов, имели давние связи с Римом. К 218 году нашей эры выходцы с востока составляли более половины всех сенаторов провинциального происхождения и около четверти Сената.
В верха римского общества Юлия Меса попала благодаря своей младшей сестре Юлии Домне, которая вышла замуж за основателя новой династии императора Септимия Севера. С тех пор Меса жила в Риме при императорском дворе и там же вышла замуж за сирийца Алексиана, которому родила двух дочерей. Старшая дочь Юлия Соэмия Бассиана вышла замуж за Секста Вария Марцелла. Это был могущественный выходец из всаднического сословия, опять же сириец. Варий происходил из Апамеи и находился на прокураторской службе: около 195/196 года был «прокуратором вод» в Риме, пока Север находился на востоке, потом стал прокуратором Британии после разгрома Альбина в 197 году. Там он остался на два срока (до 202 года). После этого Варий три срока был прокуратором частного имущества императора (rationis privatae) в Риме. В это время он женился на Соэмии и стал отцом будущего императора Гелиогабала (Секста Вария Авита Бассиана). В 208–211 годах Марцелл со всей семьёй принял участие в Британском походе Септимия Севера, так что Меса и маленький Авит/Гелиогабал провели три года в холодном северном Эборакуме. В марте 212 года Каракалла назначил Марцелла на высочайшие должности префекта Рима и префекта претория (212–216 гг.). Впоследствии Марцелл получил сенаторское звание, стал префектом военной казны, легатом легиона III Augusta и президом Нумидии (216–217 гг.). Он явно имел при дворе Северов немалое влияние. Умер он, по-видимому, в 217 году. Саркофаг его был найден археологами в Велитрах, примерно в двадцати милях к юго-востоку от Рима. Альбанские холмы вокруг Велитр были излюбленным курортом для элитных римлян, спасавшихся там от летней городской жары. Марцелл тоже жил там и был похоронен в своем собственном поместье.
Вторая дочь Месы Юлия Авита Мамея вступила в брак с Марком Юлием Гессием Марцианом. Он происходил из финикийского города Арки и тоже занимал различные прокураторские должности. Как мы видим, он тоже был сирийцем или финикийцем, что говорит об устойчивой тенденции правителей Эмесы заключать браки с земляками. Мамея стала матерью будущего императора Александра Севера (Марка Юлия Гессия Бассиана Алексиана).
Сыновья воспитывались матерями при бабушке, то есть, при императорском дворе. К 218 году Бассиан достиг возраста четырнадцати лет (родился в марте 204 года), а Алексиану пошел десятый год (родился 1 октября 208 года). По обычаям семьи, они были посвящены богу Солнца Элагабалу и воспитывались в своей религии. Более того, Бассиан был уже жрецом Элагабала. Сначала это была, видимо, формальность, но, когда Макрин выслал семью в Эмесу, Бассиан реально стал служить в главном храме Элагабала в городе предков. Бассиан был очень красив и изящен, но, как считается, был быстро развращён ритуальными храмовыми оргиями, в том числе, гомосексуальными. Только вот мы, например, в этом сомневаемся. Как мы уже указывали выше, никаких извращений в официальном культе Элагабала до этого не было зафиксировано. Обычный восточный культ. Как, например, обычная сегодня католическая церковь. Там официально категорически запрещён гомосексуализм и любой разврат, но скандалов на эту тему там полно. Да и секты на его базе возникали. То же могло быть и с Бассианом. Нам кажется, что Бассиан сам определил свою судьбу, совершив однажды, как сейчас говорят, каминаут, «почувствовав» себя женщиной. Или это происходило постепенно. И именно Бассиан, будущий Гелиогабал, стал стал основателем той сатанинской секты, которую вывез из Эмесы в Рим вместе с «чёрным камнем» Элагабала. Его секта была принципиально отлична от изначального эмесенского культа. Как к этому отнеслись его мать и бабка, мы не знаем, но эта сторона жизни Бассиана не афишировалась семьёй. Видимо, думали, что перебесится. Между тем, именно эта сторона жизни и стала определяющей в характере будущего императора.
Домна и Меса были очень умными женщинами, начитанными и высоко образованными. Их литературно-философский кружок при императорах Септимии Севере и Каракалле был широко известен. Они покровительствовали тогдашним учёным, литераторам, историкам, юристам. Домна вела значительную часть государственных дел при своём сыне Каракалле, а Меса ей помогала. Она была в курсе всех проблем империи. Учитывая тот факт, что вплоть до 217 года Меса проживала при императорском дворе, можно с уверенностью сделать вывод о наличии большого количества сторонников и клиентов её семьи в армии, чиновничестве и аристократии. После смерти Домны, как мы уже сказали, император Макрин приказал Месе возвратиться на родину в Эмесу, где проживать в отцовском доме. Имущество ей было сохранено. Между тем, за долгие годы жизни при императорском дворе, Меса накопила огромное состояние.
Рядом с Эмесой в Рафанее располагался постоянный лагерь легиона III Gallica. Многие воины этого легиона исповедовали местную религию и часто приходили в храм, где с удовольствием общались с Бассианом. Вряд ли он тогда демонстрировал воинам свои извращения. Часть же воинов легиона были клиентами Юлии Месы и находились под её покровительством. Именно среди воинов этого легиона Меса и запустила слух о том, что её внук Бассиан Гелиогабал в действительности по рождению сын Антонина Каракаллы, ибо Антонин часто посещал ее дочерей, которые были юными и прекрасными, в то время, когда она жила с сестрой во дворце. Воины распространили этот слух, так что он разошелся по всему гарнизону Рафанеи и был с энтузиазмом воспринят воинами и жителями города. 15 мая 218 года гарнизон Рафанеи объявил Бассиана Гелиогабала императором Антонином и отказался подчиняться Макрину как узурпатору и убийце императора Каракаллы. Автором последнего слуха была покойная Домна, от которой его и подхватила Меса. Солдаты охотно приняли эту версию событий 217 года, что и стало основной причиной мятежа. В последовавшей за этим краткой, но ожесточённой гражданской войне, Макрин был разбит и бежал, а его сын и наследник Диадумениан убит.
Новоиспечённый император Антонин (Гелиогабал) с армией вступил в столицу Сирии Антиохию вечером 9 июня 218 года. Он должен был въехать через Восточные ворота, пройти по широкой улице с колоннадами, повернуть направо у Омфала, центра города, и по улице, которая вела вниз к мосту, перекинутому через реку Оронт, попасть в императорский дворец, стоявший на острове. Воины жаждали ограбить богатый город, считая жителей, симпатизирующими Макрину, однако Юлия Меса понимала значение Антиохии, которая на тот момент была единственным реальным центром её власти. Она убедила внука пообещать солдатам по 500 денариев при условии сохранения города в целости. Деньги были выданы, причём часть из них была взыскана с горожан, с радостью пожертвовавших малым, ради сохранения большего. Из Антиохии Антонин (руками матери и бабки) написал в Сенат, приняв императорские титулы, не дожидаясь одобрения Сената, что нарушало традицию, но стало обычной практикой среди императоров со времён Септимия Севера. Официально он стал именоваться «император Цезарь Марк Аврелий Антонин Благочестивый Счастливый Август Гелиогабал». Впредь мы будем называть его Гелиогабалом, хотя, как раз так его римляне не называли, а называли Антонином при жизни и Лже-Антонином после смерти. В соответствии с фиктивным усыновлением Септимия Севера Марком Аврелием, Гелиогабал тоже теперь возводил ряд своих предков вплоть до Нервы и Траяна (см. например: CIL VIII 10347). Направленные в Рим письма провозглашали амнистию для Сената, подтверждали его законы, но осуждали администрацию Макрина и его сына. В первую очередь, Меса, а именно она, видимо, писала это письмо, подчёркивала низкое происхождение Макрина и впервые официально раскрывала его заговор против Антонина Каракаллы, выставляя преступником и узурпатором. Ведь раньше большинство граждан империи и сенат официально считали, что Каракалла пал жертвой мести убийцы-одиночки. Вот фрагмент письма: «Этот человек, которому даже не дозволялось войти в здание сената после объявления о том, что вход туда запрещен для всех, кроме сенаторов, осмелился захватить власть и стать самодержцем прежде, чем сенатором, предательски убив императора, которого был призван охранять» [Дион Кассий. Римская история 79, 1].