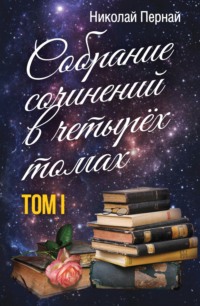Kitobni o'qish: «Собрание сочинений в четырех томах. Том 1»
Давая возможность авторам высказаться, Издательство может не разделять мнение авторов.
* * *
© Пернай Н. В., 2022
© ООО «Издательство Родина», 2022
Вернись в дом свой
Записки руководителя старой закалки
Притяжение Братска
От Тайшета до Сосновых Родников поезд шел невыносимо медленно, и долгие стоянки на безлюдных разъездах были такими нудными, что хотелось выпрыгнуть из вагона и пойти пешком. После Сосновых Родников мы поехали немного быстрее и потом от Чуны шли уже с приличной курьерской скоростью. Паровоз на поворотах весело взрёвывал, окутывая вагоны едким сернистым дымом. Пассажиры сморкались и с любопытством рассматривали неведомые сибирские земли.
За окном проплывали запорошенные снегом сосны и ели вперемежку с голыми стволами берез, осин и лиственниц, поблескивали скрытые в густой осоке ручейки и перекаты речек, кое-где уже покрытые ледком. И дальше в белесой дымке тянулись бесконечные волны сопок…
Конечный пункт у всех был один – Братск.
После Вихоревки народ засуетился. Мои попутчики, целый взвод дембелей из Забайкальского военного округа, усиленно начищали кирзачи и бляхи на пряжках и упаковывали сидора. Они ехали в Братск по комсомольскому призыву. Их ждали на «стройке коммунизма».
И вот, наконец, наш паровоз, пронзительно свистнув, остановился у одинокого бревенчатого домика, на фронтоне которого красовалась надпись «Братск».
Вместе с плотной толпой молодежи, в основном демобилизованных солдат и моряков, я вышел на перрон. Перед бревенчатым домиком, который оказался вокзалом, стояло множество грузовых машин с будками. Как потом выяснилось, это был самый ходовой пассажирский транспорт в здешних местах.
Народ целеустремленно рванул к машинам.
Поскольку меня здесь никто не ждал, я отошел в сторону, раздумывая, что делать дальше.
Куда ехать? Я твердо знал, что мне нужно в Братск, а в Братске нужно попасть на строительство гидроэлектростанции. Дальше, думал я, всё образуется само собой.
Пока я нерешительно стоял как витязь на распутье, дембеля-забайкальцы, организованно загружались в огромный МАЗ с будкой.
Вдруг слышу:
– Эй, студент!
Кажется, это меня.
– Вали сюда! Давай с нами!
Кто-то из парней подхватил мой чемоданчик, потом меня. И я поехал с солдатами, наивно полагая, что все дороги ведут к ГЭС. Вскоре выяснилось, что – не все…
Заблуждение развеялось минут через двадцать, когда машина остановилась. Оказалось, прибыли в старый Братск. Оглядевшись, я понял, что приехал не туда, куда стремился. И было непонятно, где находится ГЭС и как туда попасть.
Дембелей, комсомольцев-добровольцев, построили и увели в военкомат на ночлег.
Я же, энтузиаст-одиночка, оказался невостребованным.
– Ну, давай, студент, – прокричали мне на прощанье. – Встретимся в котловане.
Я остался один на пустой дороге. Вокруг покосившиеся ветхие избы, и ни души. Всё какое-то невероятно старое, казавшееся давно заброшенным и посыпанным серой пылью веков.
Что делать? А главное, куда податься?
Да, начинал соображать я, это не московская площадь трех вокзалов! Здесь ни метро, ни такси не предвидятся.
Солнце клонилось к закату. Я тоскливо стоял на дороге и запоздало философствовал о том, что всё, что делаешь в этой жизни, нужно планировать. По крайней мере, желательно, продумывать свои действия заранее. Если бы я всё делал, как положено, то у меня тоже могла быть комсомольская путевка, и меня тоже увезли бы сейчас в какой-нибудь будке в теплое место на ночлег. И я, может быть, пил бы горячий чай. С лимоном. Или даже с вареньем.
Если сам виноват, бессмысленно проклинать судьбу. И даже опасно. Знал я, однако, по личному опыту и то, что временами случаются удачи. С некоторых пор я верил, что мой ангел-хранитель, который уберег меня от гибели однажды в детстве, когда я совсем было распрощался с жизнью, и не раз потом приходил на выручку в самые безнадежные моменты моей полосатой жизни, – в трудные минуты не оставит меня. Поэтому, сидя на чемодане посреди пыльной дороги в чужом и непонятном для меня сибирском захолустье, прозванным «всесоюзной ударной стройкой», я ругал себя.
Но где-то теплилась надежда, что всё образуется.
И мой ангел-хранитель снова помог мне.
Из-за поворота показался самосвал. Я неуверенно махнул рукой, и машина, к моему удивлению, остановилась.
– Тебе куда? – спросил шофер.
– Мне бы на ГЭС.
– Значит, по пути. Садись.
Я взгромоздился в кабину. «Везёт, – подумалось. – Слава Богу, везет».
Это было чудо! Настоящее братское чудо…
Гравийная дорога петляла вдоль берега Ангары. Через час, преодолев с десяток крутых подъемов и спусков, мы подъехали к Падунскому сужению. В низине дорога подходила прямо к воде.
Мы вышли к реке. Ангара шумела и бурлила у прибрежных валунов, и шум ее заглушал звуки речи. Вода была кристально чистой, прозрачной и казалась живой. Я погрузил ладонь в ледяную стихию, но тугие струи с силой оттолкнули инородное тело. Течение было мощным и непреодолимым.
Метрах в трёхстах и дальше из воды торчали черные камни, и там что-то бешено клокотало.
– Это Падун, – громко прокричал шофер. – После перекрытия Ангары Падун не ревет, а только шумит.
Потом мы проехали самодельную арку на возвышенной части левого берега и попали в поселок Постоянный, который позднее был назван Падуном. Сверху открывалась панорама строящейся гидростанции: к правобережным скалам примыкала насыпная плотина с высоченными металлоконструкциями, которые время от времени озарялись вспышками электросварки; ниже плотины находился котлован, в котором копошились букашки машин и людей. А слева в узком проране рвалась на волю Ангара; вдоль прорана тянулась стена, в виде отбойника, на которой огромными буквами была начертана вызывающая надпись: «Мы покорим тебя, Ангара!»
Так я оказался на братской земле. «Сбылась мечта идиота», – сказал бы незабвенный Остап Бендер.
Был конец октября 1960 года, и мне было от роду 20 лет.
* * *
В начале второй половины прошлого века слава о подвигах гидростроителей на Ангаре гремела на весь Союз. Казалось, и дня не проходило, чтобы в газетах или по радио, не сообщили о делах буровиков, бульдозеристов, экскаваторщиков и бетонщиков в котловане Братской ГЭС, монтажников на трассах ЛЭП-220 и ЛЭП-500, о строительстве нового Братска, о прибытии на строительные объекты новых групп добровольцев из разных концов страны. Громадьё планов и кипучая жизнь великой страны будоражили умы молодежи и звали в дорогу «за мечтою и за запахом тайги».
Романтика новостроек поманила и меня. За плечами был небольшой опыт работы на стройке и три курса исторического факультета Московского университета. Я надеялся попасть в котлован гидростанции, но в отделе кадров Братскгэсстроя сказали, что им нужны только классные строители.
– У меня пятый разряд каменщика, – объяснял я.
– Каменщики в котлован не нужны. Нужны бетонщики и сварщики, – сказал кадровик.
Я не был ни бетонщиком, ни сварщиком. Поэтому сразу стало ясно, что в котлован мне не попасть и реализация мечты о героическом труде на ударной стройке пока откладывается.
В расстроенных чувствах бродил я по улицам поселка Постоянного, тогдашнего административного центра Братска, пока по совету кого-то из новых знакомых не попал к заведующему гороно А. А. Иноземцеву. Заведующий принял меня радушно, с таким видом, будто давно ждал моего появления в своем кабинете. Его простецкое обаяние и оптимизм подействовали на меня положительно. Он, и в самом деле, предложил мне на выбор несколько мест работы.
После недолгих размышлений я принял предложение завгороно поработать годик-другой учителем в школе, хотя еще вчера ни о какой школе и ни о каком учительстве не помышлял. Да что там вчера, я не помышлял об этом никогда в жизни.
– Школа находится в поселке Наратай, – улыбаясь, пояснял Алексей Александрович. – Это недалеко, но на другом берегу Ангары.
– Наратай так Наратай, – согласился я.
Мог ли я тогда предположить, что «годик-другой» затянутся на полвека?
На следующий день я уже ехал к месту назначения. Рабочий поезд из тепловоза и двух прокуренных вагончиков подобрал меня на уже знакомой станции Братск и неспешно повез в неведомое будущее. Проехали на очень малой скорости по ажурному мосту, перекинутому через Ангару между двумя абсолютно отвесными скалами, которые в здешних местах зовут «щёками», потом обогнули гору Монастырскую и понеслись вдоль берега Ангары мимо сел Красный Яр и Лучихино. Временами мелькали какие-то безлюдные бревенчатые бараки. Попутчики объяснили, что это остатки брошенных зэковских лагерей.
Вечером сошел на полустанке Сурупцево.
Было еще светло. Я вышел на крутой берег Ангары и замер от неожиданного вида потрясающей красоты. В лучах заходящего солнца загадочно светились посеребренные инеем вершины вековых елей на противоположном берегу, который, как потом оказалось, был одним из многих островов; а внизу шумела и позванивала быстрыми стрелами ледяных вод могучая река. Временами издали доносились странные вздохи, которые, казалось, исходят от какого-то сверхъестественного существа невиданной силы. Сказочная сила и стремительность тока вод завораживали, и я простоял на берегу, пока не стемнело.
Нужно было каким-то образом попадать на другой берег. Я поднялся в домик станционной службы, и дежурная тетенька объяснила, что утром за почтой прибудет с того берега лодочник, который доставит меня куда надо.
– А до утра куда деваться? – спросил я.
– Не тужи, паря, – ободрила меня дежурная. – Переночуешь у меня на вокзале.
Она открыла «вокзал» – маленькую каморку, в которой, к счастью, имелась довольно широкая лавка.
– Располагайся. Только закройся изнутри на крючок, а то здесь недалеко колония, и, случается, зэки по ночам гуляют.
Я бросил на лавку свой побитый в дорогах чемоданчик, сверху фуфайку-ватник, прикрыл каморку, как было велено, и тут же уснул. Ночью чудились какие-то голоса, чьи-то прикосновения, но встать и выяснить, что к чему, не было сил. Проснулся я от того, что за руку сильно дергала перепуганная дежурная.
– Слава Богу, живой, – заговорила она, когда я открыл глаза. – Всю ночь бродили здесь зэки. Я боялась, как бы они чё не сотворили с тобой.
Я потрогал голову – шапчонка, летние туфли из кожемита с дырочками за двенадцать рублей на мне, облезлый чемоданчик на месте, – значит, все в порядке.
– Что ж ты изнутри-то не закрылся? – корила меня дежурная. И только тут до меня дошло, что дверь в «вокзал» открыта.
А ведь с вечера я закрывал ее на крепкий крюк…
Вскоре появился лодочник. Он забрал мешки с почтой, и мы спустились с крутого берега к реке. По воде плыло множество прозрачных, тонких льдин, которые то погружались, то всплывали в студеном потоке. Как только лодочник отпихнул лодку от берега, течение тут же подхватило ее и с бешеной скоростью понесло вместе со льдинами. Пока лодочник заводил мотор, нас отнесло метров на сто. Но вот затарахтел двигатель, и, заложив крутой вираж и едва не черпая бортом воду, мы устремились поперек течения к противоположным берегам. Лавируя между островами и обходя пороги, минут через тридцать мы пристали к обледенелым бревнам плотбища, рядом с которым было несколько изб – остатки старой деревни Усть-Наратай.
У крайней избы стоял грузовик и несколько местных мужиков. Мужики побросали в кузов мешки с почтой, а заодно и мой чемоданчик.
– Кто такой? – спросил меня пожилой шофер.
Я сказал, что направлен работать учителем.
– Учителей мы уважаем, – сказал шофер, но глянув на мою легкомысленную обувку, укоризненно качнул головой. Сам-то он, как и другие мужики, был в валенках. – Ну, что ж, учитель, прыгай в кузов.
До Наратая доехали без приключений. Директор школы Леонид Григорьевич Пешков уже ждал меня.
– Добро пожаловать, Николай Васильевич! – приветствовал он меня, крепко пожимая руку. – Нам по рации сообщили, что вы едете. Очень рад вашему прибытию. Очень.
Впервые в жизни меня величали по имени-отчеству. Это был непривычный аванс признания.
Леонид Григорьевич обеспечил меня учебниками и методической литературой, и уже через два дня я вел свои первые уроки.
Самым первым был урок истории в восьмом классе. Я вошел в класс, сказал:
– Здравствуйте! – и ученики встали рядом с партами, приветствуя меня. Их было всего восемь человек, юношей и девушек. Некоторые ростом выше меня.
Тема урока была «Наполеоновские войны». Я стал рассказывать о личности Наполеона, о его честолюбивых замыслах, славных и не славных военных походах и в заключение добросовестно изложил марксистскую концепцию справедливых и несправедливых войн. Наконец, изложение темы было закончено и я, чувствуя, как от спадающего напряжения по спине бегут струи пота, волнуясь, спросил:
– Какие будут вопросы?
Урок я выучил хорошо, перечитал немало дополнительной литературы по теме, которая в довольно большом количестве имелась в домашней библиотеке Пешкова и в школьной библиотеке. Но все же волновался.
– Вопросы есть?
– Есть, – с места поднялась русоволосая красавица и, уставив на меня немигающие глазищи, спросила: – Скажите, а вы женаты?
Это была Нэлля К., которая, как потом выяснилось, была всего на три года младше меня, своего учителя.
– Н-н-нет, – в замешательстве пробормотал я…
Мои попытки на том уроке вернуться к Наполеону успеха не имели. Ребята вынудили меня рассказать о моей родине, далекой Бессарабии, о Москве и университете.
Вторым был урок зоологии в седьмом классе, потом уроки ботаники в шестом, немецкого языка в пятом и географии снова в седьмом. И так каждый день. Видя, что я не ропщу, мне до приезда новых специалистов, семьи Ильиных, дали вести еще уроки физкультуры, труда, рисования, черчения и пения. Классов-параллелей не было, и поэтому в каждом классе каждый урок был единственным и последним. Поскольку я был комсомольцем, то меня без лишних уговоров вскоре назначили еще и старшим пионервожатым и избрали заместителем секретаря комсомольской организации поселка Наратай.
Режим дня был жесткий: обычно с утра до полвторого – уроки, потом обед, небольшой отдых, потом подготовка к урокам на следующий день с обязательным написанием развернутых планов каждого урока. Часто подготовка к урокам затягивалась до 2–3-х, а то и 4-х часов ночи, а в полседьмого – снова подъем, туалет («удобства», конечно, на улице) и – школа. Ну а когда в связи с уходом в декрет моей коллеги мне дали еще и классное руководство в пятом классе, послеобеденный отдых отпал сам собой, а так называемая «внеклассная работа» с моими двоечниками-«пятышами» стала затягиваться допоздна.
Когда кончилось первое полугодие, выяснилось, что в моем классе не успевает четвертая часть учащихся. На педсовете Леонид Григорьевич, строго глядя в мою сторону, сказал:
– Надо принимать решительные меры.
На улице стоял 1961-й год. В те времена еще не знали, что такое личностно ориентированный подход, тотальная борьба с двоечничеством и процентомания. Но директорское слово «надо» для меня означало, что и вправду – надо! Никакого опыта стимулирования личностной мотивации учащихся у меня не было (В.Ф. Шаталова я тогда еще не читал), но мне очень хотелось вытащить своих детей, которые при всем их лентяйстве нравились мне все больше и больше. Я собрал родителей, – как водится, пришли одни мамы, – и сказал, что с завтрашнего дня любой ребенок, который получит двойку по какому-либо предмету, будет оставлен после занятий до тех пор, пока как следует не выучит урок и не отчитается передо мною.
– И давайте им с собой побольше еды, придется задерживаться надолго, – добавил я.
Мне было понятно, что возникнет большая перегрузка, ребятишки будут сильно уставать, но другого выхода я пока не видел. Бывали дни, когда неудовлетворительные оценки за день получало полкласса. Однако довольно скоро мои дети усвоили новое правило: получил двойку – оставайся после уроков и выучи то, что не знаешь. А Николай Васильевич поможет, но и обязательно проверит. Чаще других оставались после уроков Олег Д., Галя Х. и Коля Б. Как-то мы просидели с Олегом часов до девяти вечера: ему не давалась задачка по арифметике, и, несмотря на мои наводки, он никак не мог найти решение, а мне никак не хотелось, чтобы он просто списал решение. В конце концов, мы с ним вместе наметили порядок действий (так тогда принято было решать задачи – по действиям), но тут прибежала перепуганная мама (она одна воспитывала Олега) и увела свое бестолковое чадо домой.
Так шли дни за днями, недели за неделями, я понемногу втягивался в работу и спокойно тянул свою лямку. По воскресеньям отсыпался. О гулянье на природе невозможно было думать, потому что зима стояла лютая и морозы были жестокие.
Однажды зимним утром, подхватив портфельчик, я пошел в школу. Вроде все было, как обычно. Только туманно и очень холодно. И снег сильно скрипел под ногами. Натянул я сильнее шапчонку на голову – не помогает. Во рту необычная сухость. Хотелось очистить рот. Сплюнул и вдруг услышал тонкий звук: «Ти-инь!» Оглянулся: может это птичка пропела? Нет, кругом белое безмолвие и ни одной птички. Опять сплюнул – опять тот же звук: «Ти-инь!» Вероятно, этот музыкальный звук рождается от падения замерзшей слюны на снег, подумал я и пошел дальше. Получше замотал голову шарфом – лицо немного согрелось, но дышать стало труднее, не хватало воздуха.
Всё же дошел до школы. И с удивлением узнал, что в этот день на термометре было минус 61°.
Никаких уроков в такой мороз быть, конечно, не могло.
Вскоре из числа двоечников у меня появились твердые троечники, которые нередко лучше меня объясняли материал своим товарищам и спрашивали с них. И к концу февраля как будто новое дыхание появилось у моих детей – они перестали получать двойки. То ли им надоело, то ли они стали выслушивать больше похвал от учителей и от меня, то ли стали больше себя уважать, но факт остается фактом: к концу третьей четверти большая часть неуспевающих детей стали успевающими. Но все-таки трое имели двойки по арифметике; видимо, сказалось мое отсутствие в течение последнего месяца: я летал на экзаменационную сессию в Москву.
В четвертой четверти я возобновил занятия своей группы «продленного дня», и пятый класс все окончили без двоек.
Тогда я и вывел для себя одно простое, но важное правило: если любишь своих детей, то обязательно придумаешь что-нибудь такое, чтобы им было хорошо.
Несмотря на то, что Наратай был типичным медвежьим углом, здесь был богатый леспромхоз, свой большой клуб, больница и вся, необходимая для жизни инфраструктура. Было много молодежи моего возраста, а также немало людей постарше с интересным жизненным опытом. И жизнь моя стала разнообразной и богатой событиями.
Ближе к маю потеплело, снег быстро сошел, и я мог позволить себе вылазки на природу. По воскресеньям я брал тозовку (малокалиберную винтовку) у местного лесника и до изнеможения бродил по тайге, изредка постреливая по шишкам и сучкам, чтобы не забыть навык. Нередко попадались белки, бурундуки, иногда рябчики и косачи. Но я по живым мишеням не стрелял: этот самозапрет у меня с детства, в котором, владея арсеналом всевозможных самопалов, я настрелялся вдоволь.
Однажды весенним днем я вышел к Ангаре и был в очередной раз потрясен ее могуществом: вся поверхность реки была покрыта огромными глыбами нерастаявшего льда – торосами, – высота некоторых достигала человеческого роста.
К первомайским праздникам школа готовилась долго и основательно. А утром 1 мая мы давали концерт для жителей поселка. Дети читали стихи, изображали персонажей басен Крылова, танцевали. Было и хоровое (правда, одноголосое), и сольное пение. Особенно долго хлопали четверокласснику Мише Тыкманову, который жалостливо пел о солдатах, уходящих на войну:
И долго-долго плакали старушки
И клали им ватрушки в рюкзаки.
Гвоздем концерта была пирамида, которую выстраивали на сцене мои «пятыши». Пирамида была сложная, в три яруса. Дети ужасно волновались, боясь сбиться или упасть, но все прошло гладко. Я был с ними и подыгрывал им на двухрядке.
В мае установились теплые и даже жаркие дни. Однажды я внезапно проснулся среди ночи от мощного орудийного грохота и сотрясений земли. Вместе с другими перепуганными односельчанами я выскочил на улицу. Люди напряженно вслушивались в страшный гул, доносившийся со стороны Ангары.
Последний раз я слышал такой же гул при освобождении моего родного города Бельцы в Бессарабии от немецких и румынских захватчиков весной 1944 года, но то были залпы тысяч орудий Красной Армии.
Здесь страх нагоняло еще то, что земля под ногами явственно дрожала. Было непонятно, что случилось, что делать и куда бежать. Вдруг, подумалось, это землетрясение. Все чутко слушали и ждали, что будет дальше.
Грохот временами затихал, а потом возобновлялся со страшной силой.
Сосед, местный «бурундук», тоже слушал, приложив ладошку к уху. Слушал минуту или две, потом истово перекрестился и спокойно сказал:
– Слава Богу, пошла Ангара. Лёд, значит, тронулся.
И пошел домой.
Оказывается, Ангара вскрылась. Почему-то ледоход на Ангаре всегда проходил ночью.
Летом того же года я еще раз убедился в диком могуществе реки.
Мы, компания парней и девчат, устроили пикник на берегу одной из проток Ангары.
Ласковый летний вечер. Жаркий костер. Шашлыки, вино. Веселый разговор и песни под гитару.
Наступила ночь. Взошел яркий месяц и осветил нашу компанию. Настроение у всех было благостное и вполне позитивное.
Но, как известно, бесы не любят покой и благодать.
Кому-то вдруг пришла в голову шальная, явно бесовская, мысль:
– А давайте искупаемся!
Идиотизм публичный бывает заразительным. Поданная мысль была совершенно идиотической и абсурдной: ночь, бешеное течение реки, убийственно холодная вода, – какое купание? Тем не менее, мысль была поддержана публикой.
Парни стали снимать штаны…
Берег был ровный, а река у берега казалась мелкой. Двое забежали в воду и тут же выскочили, крича как ошпаренные. Я же – человек серьезный: учитель, как-никак – не спеша шагал по каменистому дну, и твердые струи, обжигая холодом, свистели у меня между коленками. Я быстро окунулся, чтобы привыкнуть к ледяному холоду, и подумал: пройду еще немного, чтоб было до пояса. Потом сразу вернусь. Прошел еще шаг, и вдруг дно исчезло под ногами.
Меня понесло. Я начал загребать к берегу, но меня со страшной скоростью несло на середину протоки.
С берега что-то кричали, но я ничего не понимал и изо всех сил сопротивлялся течению. Так продолжалось минуты две или больше, и тут я увидел, что течение несет меня на какие-то бревна. Это было плотбище.
Я пытался ухватиться за крайнее бревно, но не получилось: бревно было скользкое и слишком большое, наверное, в три обхвата. Из последних сил я елозил по этому бревну, понимая, что если меня сейчас оторвет, то плыть уже не смогу. В последний момент удалось ухватиться за трос, который соединял бревна. После этого сознание отключилось…
В себя я пришел, когда почувствовал, что меня за руки тянут из воды. Тянула девушка, которую звали Анта. Как многие прибалты, которых я знал, Анта была спортивной и очень сильной.
Надрываясь, она изо всех сил тащила меня и, наконец, вытащила на сухие бревна. Потом обняла мою мокрую голову и горько заплакала.
Кажется, я ей нравился…
Если б не Анта, мне было бы очень плохо.
Тут прибежали остальные члены нашей ночной компании и первым делом стали ругать меня плохими словами. Оказалось, от места нашего бивака до плотбища им пришлось бежать минут двадцать…
* * *
У школы был свой грузовой автомобиль ГАЗ-51, подаренный директором местного леспромхоза. Мы стали использовать грузовик для ближних и относительно дальних поездок.
Однажды, дело было, ещё в феврале 1961 года, небольшая делегация учителей нашей школы из шести или семи человек на грузовике поехала в соседнюю Степановскую школу «для обмена опытом». Для согрева мы навалили на себя сена, которого в кузове припасли в изобилии, – да так и ехали. Сначала – по лесной дороге, потом по зимнику, пробитому среди торосов по Ангаре. Часа через два прибыли в школу, где нас встречал в небольшой уютной учительской директор, очень известный в те времена среди учителей К. Р. Толкачев, фронтовик. Он усадил нас за большой стол, покрытый накрахмаленной льняной скатертью, на стулья, которые также были донизу закрыты льняными чехлами; на стенах висели репродукции картин. Оказавшись в такой непривычной для нас, деревенских, «светской» обстановке, мы слегка растерялись. Нас напоили горячим чаем, и Константин Романович повел показывать «базу». Степановская школа была почти такой же, как наша; по вместимости она была рассчитана на 8 классов. Как было принято, нам показали открытые уроки, потом было чтение методических докладов. Всё проходило в строгой и почему-то волнующей меня обстановке. На меня, новичка, всё увиденное, услышанное и пережитое произвело сильное впечатление. После недолгого обеденного застолья, мы прощались с радушными степановцами уже как близкие коллеги.
Зарывшись поглубже в сено и, прижавшись друг к другу, мы возвращались домой на своем грузовике, но радость от общения с хорошими людьми переполняла, нам хотелось, чтоб и в нашей школе всё было так же ладно, как у степановцев. И мы всё говорили и говорили до самого Наратая.
– Приезжайте к нам в любое время, когда сможете, – говорил, провожая нас, Константин Романович.
Мы обещали приехать, но всё как-то не получалось. И только мною судьба распорядилась, вопреки моим желаниям, так, что через год с небольшим я вернулся в Степановскую школу… в качестве ее директора.
Наратайский период в моей биографии был периодом адаптации и первых уроков, которые можно назвать уроками востребованности. Я адаптировался к местным условиям. Научился обходиться минимумом простой еды и одежды. Не боялся тайги и, хотя с хозяином-медведем не встречался, но волков видел близко. Не боялся морозов.
Ангару с некоторых пор воспринимал как живое существо.
Спал мало. Гулял мало: работа поглощала всё.
Сблизился и сдружился со многими односельчанами, часто был зван ими в гости и бывал во многих домах.
Я сильно привязался к своим ученикам, и мысли почти постоянно были о них. Они платили мне доверием и радостными улыбками, и я отчетливо понимал, что нужен этим детям. Востребован.
* * *
Летом 1961 года К. Р. Толкачева перевели в Братск на должность директора новой школы № 8 на Правом берегу. Без Константина Романовича, которого степановцы почитали как отца родного, школа фактически осиротела. Попытки выдвинуть директора из своего коллектива не увенчались успехом. И тогда нашли меня…