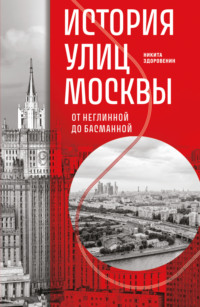Kitobni o'qish: «История улиц Москвы. От Неглинной до Басманной», sahifa 4
Волхонка
В ЭТОЙ ГЛАВЕ:
• Москвичи игнорируют указы императора.
• Ле Корбюзье пытается построить в Москве одно из лучших своих зданий, но у него ничего не получается.
• Жители Зеленограда получают возможность увидеть из окна самую высокую башню мира – но их пронесло.
Волхонка – одна из древнейших улиц Москвы за пределами Кремля и Китай-Города. На ее месте раньше проходила дорога в одну из загородных царских резиденций, а вдоль нее селились крестьяне. Они-то и дали, скорее всего, этой местности ее первое оставшееся в истории название – удивительное Чертолье. Название пошло от протекавшего здесь ручья (или маленькой речушки) Черторыя. Ручей себе прорыл что-то вроде оврага на своем пути от истока на Козьем болоте (ныне пафосных Патриарших) до Москвы-реки. И москвичи смотрели на этот овраг и думали: «Ну, это, видать, черт прорыл», – вот и Черторый. А отсюда и улица – Чертольская. Алексей Михайлович решил прекратить эту чертовщину в двух шагах от Кремля и специальным указом (!) переименовал Чертольскую – в Пречистенскую (по иконе Пречистой Божией Матери Смоленской). Но москвичи не успокаивались. Это тот самый редкий случай, когда официальное, да еще и такое благородное, правильное, название не прижилось. Местность становилась все более престижной. Простые крестьяне и ремесленники вытеснялись знатью. Здесь появлялись дворы аристократии: князя Меньшикова, царевны Екатерины Ивановны, Голицыных и… Волконских. Когда Волконские продали свои старинные палаты, в них разместился казенный питейный дом, а назвали его по фамилии прежних хозяев – Волконкой. Вскоре заплетающийся язык превратил это в Волхонку, а название перекинулось на целую улицу.
Пусть улица и древняя, одно из самых удивительных зданий на ней – советская бензоколонка. Других таких во всей стране не отыскать! Если присмотреться к ее колоннам, заметите перекличку с колоннами соседней станции метро «Кропоткинская», отсылающей к древнеегипетским храмам Луксора и Карнака. Совпадение? Скорее всего – нет. Ибо и «Кропоткинская», и бензоколонка – части грандиозного непостроенного комплекса Дворца Советов. Его возводили на месте бывшего (и нынешнего) храма Христа Спасителя.
По замыслу, внутри почти полукилометрового небоскреба (важно, чтобы он был хотя бы чуточку выше нью-йоркского Эмпайр-стейт-билдинг) должны были расположиться различные органы государственной власти, а главное – залы для собраний и съездов. Когда мы смотрим сейчас на проект, невольно приходят в голову мысли об имперском величии: «А не то же ли это самое, что дворцы Российской империи, например?» Люди эпохи Советов тоже понимали, что этот вопрос может возникнуть, – все же гигантская башня не сразу похожа на заботу о пролетарии. И они такой проект с легкостью оправдывали: «Прежде всего, сама громадность размера – это пролетарский стиль… Мы стремимся к грандиозным размерам не потому, почему добивался громадных масштабов какой-нибудь безумный император вроде Нерона или американские капиталисты… У нас одновременно утилитарные задачи (ибо в Москве не можем жить без зала на 20 тыс. человек, потому что негде видеть и слышать вождей), но в то же время самая грандиозность размеров присуща зданиям пролетариата», – говорил Луначарский. Конечно, важно было сделать не только зал на N тысяч человек, важно было сделать символ «грядущего могущества, торжества коммунизма». Первые мысли о дворце публично высказали еще в 1922 году. Но шла Гражданская война, и о финансировании чего-то настолько грандиозного речи идти не могло. К идее всерьез вернулись уже через десятилетие. Страна воспряла из разрухи, и очень хотелось показать всему миру, как величественна выбранная политическая модель. Считается, что решение о строительстве дворца принимал сам вождь, Иосиф Сталин.
Начался закрытый конкурс на проект дворца. Дали несколько критериев. К примеру, внутри должно быть два зала: Большой и Малый (именно так – с большой буквы). В Малом проходили бы всевозможные театральные постановки и выступления в обычные дни. А на особые праздники торжественные процессии шли бы уже через Большой зал. Внешний вид, конечно, должен был выражать торжество социализма. Некоторые критерии были заведомо неосуществимы, но вполне отражали страсть к ударным стройкам и темпам. В мае 1931 года заканчивался конкурс, к январю следующего предстояло уже разобрать храм Христа Спасителя, к концу года нужно было закончить строительство проекта, а в следующем году завершить отделку. Но в целом чего конкретно хотелось советскому руководству, никто не понимал (скорее всего, даже оно само), так что первый конкурс был скорее чем-то вроде брейнсторма – просмотра предварительных, самых смелых и разнообразных идей.
По одному из самых интересных проектов, предстояло снести храм Христа Спасителя, а на его месте построить огроменный стометровый куб. На верхушке куба стоял бы памятник Ленину, а на фасаде куба красовалась бы символика социалистических республик. Причем специально оставленные пустоты олицетворяли нешуточные амбиции нового государства – это были места для символики будущих социалистических республик. Ну, например, Американской, Английской или Немецкой.
От идеи огромного куба вскоре отказались, но что-то от этой мысли осталось и в финальном проекте. Например, скульптура Ленина наверху и место строительства – на месте храма Христа Спасителя. В духе эпохи решили особо не медлить и начали разбирать храм еще до утверждения того, что будут строить. Как выяснилось, разобрать основательно построенный Константином Тоном храм – дело непростое, и его в итоге просто взорвали. Осталось даже видео, которое можно легко найти в интернете.
Вскоре состоялся новый конкурс с более четкими критериями. Было прописано необходимое количество залов, их объем, общая схема организации здания и так далее. Конкурс был открытым, и к нему с нескрываемым энтузиазмом подключились не только союзные архитекторы, но и сочувствующие Стране Советов иностранцы. 11 работ прислали американцы, 3 – французы, 5 – немцы и так далее. Из немецких архитекторов, участвовавших в конкурсе, пожалуй, самым ярким был Вальтер Гропиус, основатель известной на весь мир школы дизайна Баухаус. А проект американца Гамильтона даже вышел в финал конкурса. Своим участием украсил конкурс и франко-швейцарский архитектор, известный под псевдонимом Ле Корбюзье. Его проект был действительно интересным: сочетания различных по форме объемов, объединенные чем-то вроде абстрактной модернистской скульптуры. На удивление гармоничное и человечное здание было красиво, но Корбюзье не считал (или не захотел считывать) сталинский посыл. Здание новой идеологии совсем не отвечало. Многие считают, что это, возможно, лучшая нереализованная работа архитектора. В плюсы проекту засчитывают то, что он служил не столько пропаганде, сколько комфорту людей, был «соразмерен масштабу человека». В сталинской Москве 1930-х эти плюсы, возможно, были главными минусами. И в конкурсе победил проект Бориса Иофана, ставший в некотором смысле манифестом новой эпохи сталинского ампира (кажется, не только архитектурной). Повторный конкурс полугодом позже утвердил победу Иофана. После некоторых корректировок проект получался очень интересным.
Почти вся нижняя треть полукилометрового небоскреба отводилась под полусферу Большого зала. В этом уже видятся отсылки к шару кенотафа Ньютона – бумажному проекту архитектора XVIII века Этьена-Луи Булле. Бумажному – потому что нереализованному, оставшемуся на бумаге, и в этой параллели как будто считывается пророчество уготованной Дворцу Советов судьбы. Утвержденный проект заведомо должен был стать малофункциональным. Здесь главное – символ: архитектура и скульптура в этом здании сливались бы в единое целое. По сути, оно становилось пьедесталом, на верхушке которого – скульптура пролетария. Ах, нет! От этой идеи в итоге отказались в пользу скульптуры, конечно, Ленина, указующего куда-то вперед и вверх. Давайте оценим масштаб. Указующий перст вождя был бы длиной 4 метра. А вес всей скульптуры приближался к весу Эйфелевой башни: 6000 тонн против 7300 тонн. Превращение архитектуры в пьедестал было вполне осознанным. Утверждалось, что «Дворец Советов – памятник вождю человечества, великому Ленину…». Но Ленин был не единственной скульптурой проекта. Ему вторили гораздо более маленькие и близкие к земле Маркс и Энгельс, стоящие снаружи здания. А саму постройку дополняли еще более полутысячи бюстов и скульптур. Все это на фоне 20 тысяч квадратных метров художественной росписи (всегда интересно, когда живопись оценивают в квадратных метрах). Из технических чудес внутри должны были расположиться 200 лифтов, почти сотня эскалаторов, 140 (!) входных групп и 30 тысяч автоматических гардеробных кабин. Логично, ведь постройка рассчитывалась на одновременное нахождение внутри 30 тысяч человек. Продумали особую систему климат-контроля и автоматического освещения, а также внешнюю подсветку – здание должно было быть четко различимо на расстоянии 35 километров. То есть его бы сейчас видели жители Зеленограда. Но Дворец Советов – это не просто невероятное здание-утопия, это реконструкция целого большого района Москвы. Предстояло снести несколько кварталов, проложить магистрали, организовать площади, сделать станцию метро с выходом прямо внутрь небоскреба и в том числе построить заправку – единственный сохранившийся до сегодняшнего дня объект проекта.
К делу подошли серьезно. В Нью-Йорке поселились два постоянных представителя. Они консультировались с американскими архитекторами по вопросам строительства небоскребов. Все же на момент 1930-х годов они были в этом главными мировыми экспертами. У Америки закупали также эскалаторы, лифты и вентиляторы. К 1939 году стали всерьез обсуждать детали внутреннего оформления дворца – кажется, ни у кого не было сомнений, что проект обязательно закончат. За основу оформления фойе взяли два фильма: «Ленин в Октябре» и «Богатая невеста», краеугольные картины советского мифа.
С практической точки зрения наладили производство самой прочной в Советском Союзе стали особой марки ДС – «Дворец Советов». Все шло по плану. Полностью готовая высотка должна была озарить мир в 1942 году. Уже выходили марки, открытки, брошюры и книги, восхваляющие невероятный небоскреб. Но помешала Великая Отечественная война. Запасы сверхпрочной стали пошли на производство противотанковых ежей, строительство и ремонт мостов. А когда кончились запасы, начали разбирать уже возведенные конструкции Дворца. После войны денег на продолжение грандиозной стройки не было. Сначала решили просто уменьшить объем Дворца, а потом и вовсе разменяли одну великую идею на 8 маленьких – 8 сталинских высоток, разбросанных по городу. На месте величайшего проекта эпохи вскоре появился бассейн, а со сменой эр – почти точная реплика храма Христа Спасителя. Но кое-что от небоскреба все-таки осталось – та самая заправка. Бип-бип – мне полный бак 95-го, пожалуйста.
Большая Никитская
В ЭТОЙ ГЛАВЕ:
• Иван Грозный венчает Симеона Бекбулатовича на царство, и тот становится правителем Руси, но никто об этом не знает.
• Кислошники отвозят патриарху бочку соленых огурчиков.
• Древнеримский пекарь Эврисак оставляет след в истории Библиотеки имени Ленина.
Большая Никитская – одна из самых модных и пафосных ныне улиц Москвы, но при этом – одна из самых древних. Когда-то это была трасса на Новгород, удивительным образом несколько раз становившаяся своеобразной линией разделения внутри Москвы. Когда улица только образовывалась, на ее правом берегу жила новгородская черная сотня.
Черная сотня – это кусочек посада, самоуправляющееся небольшое сообщество ремесленников и торговцев. У них был очень низкий статус: мало привилегий, много обязанностей и порой невыносимо высокие налоги, превышавшие их доход. Помимо денег от них зачастую требовали выполнять общественно полезные работы, например мостить улицы или содержать низших служителей полиции. В общем, быть членом такой черной сотни было делом невеселым.
А вот на rive gauche, левом берегу Никитской, было гораздо престижнее. Там располагался Ямской двор – что-то вроде первого правительства Москвы. Они вершили суд среди жителей тех самых черных сотен и слобод, регистрировали права собственности на дворы, содержали тюрьмы и хоронили неопознанные трупы. Также они следили за пожарной безопасностью и в случае, если что-то все же загоралось, высылали на место происшествия стрельцов, которые зачастую не могли ничего потушить, а могли лишь не дать огню распространиться – для этого они топорами рубили все деревянное вокруг очага возгорания. Ну и последнее по порядку, но не по важности: Ямской двор собирал деньги. Мостовые деньги – для мощения улиц, решетчатые деньги – для содержания городской охраны. Решетчатые деньги так назывались действительно из-за решеток, которые были на улицах: их запирали на ночь, а за их охраной следили специально нанятые сторожа, у каждого из которых был свой квартал, за который такой сторож был ответственен. На содержание всего этого требовались средства. Чуть позже, когда ямские дворы уже переименовали в земские приказы, на площади перед ними всегда можно было найти вполне официально работавших людей, которые за плату помогали составить письменные документы, – что-то вроде современного МФЦ.
При Иване Грозном, когда Москву поделили на опричнину и земщину, Никитская вновь стала границей. Справа – земщина, слева – «Государева светлость Опричнина», личный удел царя, в которой исполняла волю Ивана Грозного его личная гвардия. Интересно, что номинально страна в этот момент как будто бы поделилась на две отдельных. В опричнине царем был Иван Грозный, а в остальной части Руси, земщине, правил земский царь Симеон Бекбулатович. Того, по настоянию Ивана Грозного, целый год даже именовали «великим князем всея Руси». Все было устроено серьезно. Иван Грозный лично посадил Симеона Бекбулатовича царем, венчал его царским венцом. Себя же повелел называть Иваном Московским, переехал из Кремля на Петровку и катался по Москве как простой боярин. К Симеону обращался по всем правилам: «Государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всеа Руси Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцем до с Федорцом, челом бьют». Но это была только игра, де-факто Иван Грозный, конечно, никакому Симеону бразды правления добровольно бы не отдал.
Зачем было устроено такое «театральное представление», до сих пор ломают голову историки. Возможно, чтобы совершить какие-то непопулярные политические шаги, например отобрать у церкви земли, а потом заступиться за духовенство, забрать их обратно у «нового царя», правда не все, а оставив государству сколько нужно. Кстати, эта игра потом создавала проблемы. В Смутное время Симеон Бекбулатович был еще жив и некоторые бояре были готовы присягнуть ему. Поэтому придумали специальную формулировку. Когда бояре целовали крест Борису Годунову, каждый должен был в числе прочего сказать: «Царя Симеона Бекбулатовича и его детей и иного никого на Московское царство не хотети видети…» Симеона в итоге сослали в Тверь, постригли в иноки, сослали на Соловки, но снова перевели в Москву, где он умер. А захоронили его на месте нынешнего Дворца культуры ЗИЛ.
Вот тут, на Никитской, где была граница между владениями «Ивана Московского» и «земского царя» Симеона, со стороны Ивана располагалась Кисловская слобода (рядом остались до сих пор Кисловские переулки). Ее жители, кислошники, поставляли к царскому двору кислую капусту, огурчики, квас и прочие квашеные и засоленные продукты. До изобретения консервирования или холодильников тогда оставалось еще несколько веков, поэтому кислые и засоленные продукты были тем немногим, чем можно было питаться зимой. Здесь же рядом селились специальные патриаршие кислошники. Они поставляли все то же самое, только патриарху. Чуть позже часть этой слободы отдали приказу Царицыной мастерской палаты, и здесь, между квашеной капустой и солеными огурчиками, поселились царицыны швеи, постельницы и кормилицы. Рядом была еще огромная Поварская слобода, где готовили блинчики, пекли хлеба и жили повара царя.
Но это все в прошлом, от тех времен остались только названия улиц да переулков. Сейчас Никитская – улица гедонизма, вечеринок, гастрономических изысков, музыки и прелестной архитектуры. Одна из моих любимых построек – здание подстанции метрополитена, построенное в 1930-е годы на месте Никитского женского монастыря, того самого, в честь которого улица получила свое название. От него сейчас остались разве что корпус да кусочек стены. В здании подстанции уже чувствуется близкая кристаллизация сталинского ампира и превращение его в шаблон и клише. Но пока еще сквозь напускную строгость просачивается смелость и яркость мысли архитектора Фридмана. Чего стоят одни колонны, напоминающие буферы, соединяющие вагоны метро. Интересный прием, ставший на короткое время неожиданно модным, – стена из кружочков. Это отсылка к древнеримской гробнице пекаря Эврисака. В ней кружочки, как считается, имитируют дырочки в амбарах, которые делали для проветривания зерна. А здесь, на здании РГБ со стороны двора и на павильоне метро Чистые пруды, – это чисто декоративный элемент. Вскоре после постройки по Москве поползла байка: мол, один из барельефов, изображающий метростроевцев, на самом деле маскирует в себе будораживший умы и сердца москвичей любовный треугольник Лили Брик, Маяковского и Осипа Брика. Но это хоть и красивая – лишь байка.
В самом конце древней части Никитской, упиравшейся в Никитские ворота Белого города, – здание ТАСС. Впервые о новом московского домике для Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), пусть и основанного еще в 1904 году в Петербурге, заговорили в 1930-е. Тогда Илья Голосов, автор восхитительного Дома культуры имени Зуева на Белорусской, предложил проект 20-этажного небоскреба. Над идеей подумали и почему-то отвергли. Тридцатью годами позже к идее вернулись. Небоскреб вырос еще на 5–6 этажей и обзавелся лифтами, кондиционерами, столовой для сотрудников и бегущей инфострокой на крыше. Буквы, конечно, должны были быть в рост добротного школьника – полутораметровой высоты. Кто-то посмотрел на небоскреб, на историческую застройку Москвы в районе Никитской и приказал поделить небоскреб на два. Остались 13 этажей. Стали строить и уже во время стройки внезапно поменяли идею – и 13-этажка стала 9-этажкой. А выглядит еще компактнее – огромные двухэтажные «оконные» (телевизионные?) рамы скрывают в два раза больше этажей, чем кажется, – не четыре, а целых восемь. Девятый этаж хитро спрятался между вторым и четвертым. Зато выглядит кубик ТАСС благодаря такому приему как огромная избушка без двускатной крыши и конька наверху. Однако – с бегущей строкой, благоразумно переместившейся с крыши на уровень третьего этажа. Автором стал архитектор восхитившего некогда Хрущева и финского модерниста Алвара Аалто Дворца пионеров на Воробьевых горах – Виктор Егерев. На связь ТАСС со всем миром намекает глобус перед парадным входом. А казалось бы, еще недавно тут для царя капусту квасили.
Bepul matn qismi tugad.