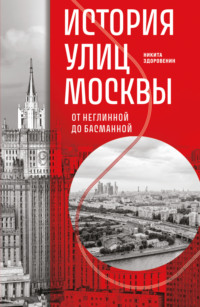Kitobni o'qish: «История улиц Москвы. От Неглинной до Басманной», sahifa 3
Лубянка
В ЭТОЙ ГЛАВЕ:
• Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь.
• Микоян едет в Америку и возвращается, фонтанируя идеями направо и налево.
• Ребенок получает бесплатное мороженое за то, что ему удалили миндалины.
Название «Лубянка» – не москвич, а гость города, оставшийся у нас жить. Название приехало в Москву вместе с новгородцами, из Великого Новгорода и его района Лубяницы. Есть неподтвержденное мнение, что под конец XV века Иван Великий присоединил Новгород к московскому княжеству. Чтобы новгородцы вдруг не взбунтовались, часть жителей переселили сюда. Так они оказались на холмике, который раньше называли Неглинный верх. Москва – ведь это много невысоких холмиков. Этот считается самым высоким в центре. Как раз со времен Ивана III, когда сюда переселяли новгородцев, Москва пыталась доказать всем и себе самой, что она – Третий Рим. Не только в плане религиозной преемственности сгинувшей Византии, но и в геологическом смысле.
В Москве все время пытались найти 7 римских холмов. И даже находили, правда, разные люди находили разные 7 холмов – их в городе все же много больше. И вот один из них стал благодаря новгородцам Лубянкой – в принципе, что-то вроде «Русского холма» в Сан-Франциско.
Традиция торговли на этом месте уходит корнями в глубь времен. Когда Москва стала отстраиваться после наполеоновского пожара, князь Долгоруков построил здесь целый квартальчик двухэтажных зданий в стиле ампир, покорившем в те годы Москву. Помещения сдавали под жилье или магазинчики. В одном из зданий был воспетый Гиляровским трактир Колгушкина. В нем встречались «издатели с Никольской» с «писателями с Никольской» – так их называли в Москве. Это были не совсем настоящие издатели и писатели. Они издавали какой-то жуткий ширпотреб, «народные книги» или вообще переписывали по-своему популярные произведения. Такие издатели вполне могли выпустить нового «Тараса Бульбу» или «Графа Монте-Кристо» – все то, да не то. Книга была переписана по-новому никому не известными авторами. Причем имена новых авторов даже ставили на обложке. Это были не подделки, а заново написанные произведения, имевшие из общего с оригиналом разве что имя главного героя да общую канву сюжета. Все остальное было отсебятиной «писателя».
Как говорили сами «издатели с Никольской»: главное – это обложка и заглавие, а если уж купят, то прочтут, на содержание – все равно. В этом трактире «издатели» и «писатели» собирались за чайком и обсуждали, что нужно будет написать (что-нибудь популярное), за какой срок (обычно очень быстро: неделя-две) и за какие деньги (обычно за копейки). Среди писателей встречались студенты, желавшие подзаработать, выгнанные со службы офицеры или чиновники и неудавшиеся литераторы. В трактире осуществлялись сделки практически на весь цикл производства: от написания книги до ее продажи. Сюда же приходили распространители книг и офени. Офени, или коробейники, – торговцы-разносчики. Они ходили и по улицам городов, но в основном – по далеким поселениям, торговали всякой нужной в быту мелочью, смешными лубочными картинками и глупыми «книжками с Никольской». Они редко оседали на одном месте, чаще отправлялись в затяжные путешествия с коробом из коры (поэтому их еще называли коробейниками) или с телегами, которые везли обычно сами. Вечное странствие для офень становилось образом жизни. Они отправлялись из города в свое торговое путешествие в середине лета (таких офень называли ранними) или в начале осени (это – поздние офени). Обратно они приходили к концу февраля или к Пасхе. Летом они ходили по селам с коробом на тележечке, а зимой – с коробом на санках. Так они проходили большой путь.
Один офеня из Тулы описывает свое путешествие: «Из Сызрани едем на Самару в Бузулук, в Самаре мы не останавливаемся: там торговли не бывает, потому как там почитай все раскольники, наших книг и картин не покупают. Потом едем на Бугульму, Белебей, Уфу, Златоуст, Верхнеуральск, Челябинск, Троицк, Красноуфимск, ну а потом опять через Уфу обратно».
Чтобы как-то себе представить масштабы путешествия: от Сызрани до Челябинска – около 1000 километров. В селах офень ждали с распростертыми объятиями. Офени с радостью давали товар в долг – до следующего года! И уж совсем расплывались в улыбке, если появлялась возможность поменять свой товар на другой (обычно лен, овес, хлеб) – от бартера они получали даже большую выгоду, чем от обычной продажи за деньги. Офень еще иногда называли боготаскателеми (они торговали иконами) или книгоношами (торговали книгами). Их основными товарами были какие-то иголки, шелк, колбаса, сыр, колечки, серьги, лубочные картинки и, конечно, книжки с Лубянки.
Крестьяне охотно покупали сценки из былин про богатырей, карикатуры на купцов из большого города, предсказания о попадании в ад богатых и скупых людей, сонники, календари и жития святых. Среди книжек, помимо вольных «каверов» на «Тараса Бульбу» и «Графа Монте-Кристо», попадалась и авторская беллетристика: «Тайный грех», «Хмельная брага», «Жизнь и казнь Стеньки Разина» и т. д. Если офеня хотел торговать такими книжками, для этого нужно было получить разрешение у местного губернатора и свидетельство на торговлю. Проверялась политическая благонадежность офени, смотрели, какие книги он (или она) планировал продавать, узнавали, принадлежит ли заявитель к какой-нибудь секте или к мусульманству, увлекается ли пьянством. С выданным разрешением офеня отправлялся в путь.
Грамотный офеня, способный рассказать о содержании своего товара и хорошо его преподнести, зарабатывал в среднем на треть больше своего неграмотного коллеги. У офень была своя особенная культура и даже язык. Они смешали книжную премудрость, знание греческого языка, уклад жизни торговца или ремесленника. Есть мнение, что «офеня» – это искаженное «афиняне», ибо, по одной из версий, первыми офенями на Руси были сбежавшие от Османской империи греки. Офени вскоре стали считать себя чем-то вроде тайного общества. У них даже развился свой собственный язык – феня. Это была интересная смесь греческого, идиша и принципа словообразования русского языка. Вот как выглядит пословица «Век живи, век учись – дураком помрешь» на фене: «Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь». Вот такие вот люди приходили сюда, на Лубянку, и закупались книгами. К 80-м годам XIX века владелец торговых площадей захотел их облагородить и построил на их месте новомодный пассаж. В Лубянском пассаже торговали золотом, серебром, конфетами, шляпками, кружевом, граммофонами, здесь был чайный магазин Перлова. После революции Лубянский пассаж стал принадлежать государству. В нем в разное время были книжный склад, театр, библиотека, конторы, пара магазинчиков и популярный в студенческой среде пивной бар. В 1953 году здесь захотели открыть лучший в мире детский магазин. Приехал архитектор Алексей Душкин, автор станции «Маяковская» и высотки на Красных воротах, посмотрел на пассаж и сказал, что нечего пытаться вместить в старинный пассаж детский магазин, нужно снести его и построить новое здание, может быть оставив фундамент. Сводчатые подвалы старого пассажа действительно стали частью нового «Детского мира», открывшегося 6 июня 1957 года, к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
5 июня на открытие пришли Фурцева (первый секретарь Московского комитета КПСС) и председатель исполкома Моссовета. А еще пригласили рабочих, возведших в рекордные 3 года «Детский мир». Им в качестве премии позволили первыми отовариться в магазине, заполненном до краев детскими товарами. Если бы Данте писал о детском рае, он бы написал «Детский мир». На каждом из четырех кругов материализованного детского счастья мамы, папы и их чада получали такое обилие приятных сюрпризов, что казалось: за все труды им наконец воздалось сторицей. Но, как и у любого мира, у детского был свой архитектор. И речь даже не о скорлупке-здании, а о наполнении – о сладкой начинке главного детского магазина 1/7 части суши. Этим тайным, невидимым архитектором был Анастас Микоян – человек удивительной неуемности и веры во что-то светлое и прекрасное даже в самые темные времена. Анастас Микоян любил праздники, полные полки, довольных и счастливых людей. А еще он любил красивые, яркие, звенящие, игривые магазины. Один такой он увидел в Нью-Йорке – Macy’s. Тогда это был, наверное, самый знаменитый универмаг в мире. Девять этажей ритейла, знаменитое нью-йоркское ар-деко, деревянные эскалаторы (они до сих пор сохранились там на верхних этажах!), специальные машинки для взбивания коктейлей, крутящиеся кронштейны для показа платьев. Кажется, призрак этого магазина не давал Микояну покоя. Он воплощал его снова и снова, по разному перерабатывая идеи, улучшая, адаптируя под социализм. В год смерти Сталина он открыл ГУМ.
«Не день сегодня, а феерия, ликует публика московская, Открылся ГУМ, накрылся Берия, и напечатана Чуковская».
А. Б. Раскин
В том же году Микоян поставил свою подпись на проекте нового ГУМа – детского. Интересно, что до наших дней детища Микояна, вдохновленные Macy’s, дошли гораздо более здоровыми и живыми, чем их нью-йоркский прототип – от него остались только рожки да ножки, да деревянные эскалаторы, да парад на Пятой авеню на День благодарения. А что же было в «Детском мире»? Магазины одежды и обуви. Отдельные магазины по интересам и возрастам детей: «Для самых маленьких», «Для юного техника» и так далее. Всюду стояли кони, карусельки, качельки, конструкторы, куклы, конусы с лимонадом и другие предметы на букву «к». Дети в «Детском мире» веселились беспощадно, пока родители покупали им одежду к очередному 1 Сентября (конечно, на вырост), наборы «Юный химик», колготки (а не ненавистные чулки на резиночках), финские комбинезоны и туфельки из Чехословакии. «Ма-а-а-ам, а можно мороженое?»
Можно! Самое лучшее, самое натуральное, самое вкусное в мире мороженое можно было найти в «Детском мире», ГУМе и ЦУМе. Это знали все. На стаканчиках, прямо на шарик мороженого, прикрепляли круглую бумажечку с ценой, наименованием производителя и надписью «ГОСТ 117–41». 41 – 1941 год. По этому ГОСТу делали мороженое как минимум полвека.
Советское мороженое тоже дитя Микояна. Это он в 1936 году поставил задачу «сделать мороженое массовым продуктом, выпуская его по доступным ценам».
Задача была выполнена: советские дети лакомились мороженым летом и зимой, государство оплачивало (!) мороженое детям, перенесшим удаление миндалин, на весь постоперационный период. А как радовались продавщицы! До 1980-х мороженое стоило 19 копеек. Сдача с 20 копеек почти всегда оставлялась на чай продавщице («Ой, да оставьте себе!»).
Микоян пришел уже на второе открытие «Детского мира», на следующий день после первого. Тогда же приехал Хрущев, перерезал ленточку, но ходил угрюмый – слишком шикарный получился магазин, плохо подходил под концепцию борьбы с излишествами. Здесь были те еще излишества и изобилие. Одних полок, полных товарами, было 2 километра. Под гигантским полукруглым прозрачным потолком стояла многоэтажная избушка, в которой, казалось, вполне комфортно мог жить настоящий волшебник-рабочий. Рядом стояла ладья, на которой обитал доктор Айболит под скачущими по мачтам мартышками. Ладья вскоре куда-то уплыла, а терем еще стоял годами. К 1960-м в «Детском мире» появились вендинговые автоматы с карандашами и тетрадками. Шок! Восторг! И лишь одна проблема. Они выдавали один предмет в обмен на одну монетку. То есть если вам нужно 10 карандашей, нужно было 10 раз кинуть монетку. Продавца им было не заменить, но аттракцион роскошный. К 1970-м ассортимент «Детского мира» пополнился импортными товарами из Финляндии и Чехословакии. А к 1990-м, когда часы пробили полночь, все это исчезло, хрустальная сказка рассыпалась на миллионы сверкающих воспоминаний и растворилась, как лед в весенней луже. В приватизированном «Детском мире» открылись магазинчики, банки и автомобильные салоны. Торговый центр ветшал. В стенах появились трещины, крыша норовила обвалиться при большом снегопаде. Магазин закрылся на реконструкцию. За это время он, как хорошо евший кашу ребенок, подрос на три этажа. Часы с кукушкой заменили на вычурные сказочные часы с завода «Ракета». И в обновленный «Детский мир», кажется, наконец-то вернулся дух сказки и предвкушение каких-то невероятных сюрпризов за каждым углом.
Охотный ряд
В ЭТОЙ ГЛАВЕ:
• Крыса пробегает под столом, пока мужик в двадцатиградусный мороз макает курицу в бочку с водой.
• Студенты дерутся с мясниками в центре Москвы, и это остается в истории как «битва под Дрезденом».
• Читатель узнает, почему американцы узнавали гостиницу «Москва» порой даже лучше, чем Кремль.
Кажется, дореволюционные москвичи могли бы найти Охотный ряд с закрытыми глазами – по запаху. Здесь у каждой мясной лавки (а на Охотном, конечно, торговали мясом) была своя небольшая бойня. На рынок привозили птицу и мелкий скот еще живыми. Доставлять забитых животных так, чтобы мясо не портилось, тогда еще не умели. Живых куриц и телят забивали прямо здесь. Текли лужи крови, они застывали, кровь портилась и источала «восхитительное» амбре. Такие запахи не были в новинку для москвичей. Мертвых животных зачастую выбрасывали просто на улицу, и там они лежали, «ароматизируя» город, никем не убираемые. На Охотном ряду знакомые городу запахи просто достигали своей наивысшей концентрации.
По воспоминаниям, на этом рынке была своя «ароматная» география. С одного конца пахло дохлой рыбой, с другой – испортившимся салом. Всюду роились мухи и, никого не стесняясь, шныряли упитанные крысы. И как будто бы все воспринимали такое положение дел как должное.
Никого не смущал даже мышиный помет в купленной на рынке крупе или тараканы (а порой и какие-нибудь грызуны) в хлебе и булочках. Город это тоже никак не контролировал. Лишь во второй половине XIX века появилась санитарная полиция, которая хоть как-то стала следить за соблюдением санитарных требований. Фасады лавок стали выглядеть чище, но на то, что происходит позади, все равно лучше было не обращать внимания.
Несмотря на все это, Охотный ряд считался первоклассным местом в Москве для покупки мяса. Если вы приходили отобедать в лучший московский ресторан той эпохи, велика вероятность, что поданная вам пожарская котлета была сделана из мяса, купленного именно здесь. Вы как покупатель приходили сюда, в эти ряды, как в маленький городок – лавки здесь почти все были двухэтажные. На первом этаже – торговля, на втором (не забываем про вонь) жили. Торговали тут, кстати, не только «первоклассным» мясом, но и овощами, рыболовными снастями, рыбой, яйцами и, совсем неожиданно, старыми книгами и смешными лубочными картинками. Здесь можно было закупиться клубникой, капустой, огурцами, редькой, палками колбасы сотни видов, фаршированными головами кабанов, трюфельными сосисками и крутыми импортными окороками. У торговцев была своя хитрость. Чтобы залежавшийся товар заимел вид свежего, только-только привезенного, его аккуратненько смазывали растительным маслом. Рыбу продавали живой. К слову, и животных тоже можно было купить живых – просто идите на мычание, кудахтанье и взвизгивание поросят. Хотите – забирайте живыми, а хотите – забьем прямо при вас в телячьей бойне (несмотря на название, там оказывались различные животные). Оцените размер рынка: в лучшие дни здесь, на месте нынешней Манежной площади, можно было насчитать до десяти тысяч связанных в ногах живых телят. Зимой продавали мясо про запас. Делали это восхитительно простым и элегантным способом. Берете вы, например, курицу за хвост и окунаете в ведро с водой. Вода на морозе застывает, и курочка оказывается как бы в ледяном коконе. Прямо так ее и покупали, везли в ле́дник (погреб со льдом, прадедушка современного холодильника), и все – запасы готовы.
Замораживали куриц и рубили головы телят известные на всю Москву своей силушкой и грубым нравом охотнорядские мясники. Они не гнушались участвовать в общественных событиях города. Так, на студенческих протестах они встали на сторону полиции и избили студентов. Мясники были уверены, что те протестуют против отмены крепостного права. Но позже поняли, что совсем против другого, и стали сочувствовать протестующим. Забавно, что в студенческой среде то побоище мясников и студентов стало известно как «битва под Дрезденом» – дело было возле гостиницы «Дрезден».
С приходом советской власти торговля в Охотном ряду прекратилась. А на одноименной улочке появились два невероятных символа сталинской Москвы – здание Совета Труда и Обороны (ныне Государственная дума) и гостиница «Москва». Гостиница «Москва» – одно из самых дорогих зданий столицы, а также одно из самых известных. С ним связана одна из самых популярных архитектурных легенд города. Смотря на фасад, вы заметите, что башенки по краям гостиницы – разные. При всей строгости сталинского ампира здание получилось несимметричным. Как же так вышло? По самой популярной версии, когда Сталину показали два проекта гостиницы на одном листе бумаги, он поставил свою подпись прямо посередине между ними. Архитекторы решили лишний раз вождя не тревожить и сделали два проекта в одном. Но, как оказалось, это лишь популярная легенда. На самом деле гостиница «Москва» – это перестроенный и надстроенный гораздо более маленький дореволюционный «Гранд-отель». При строительстве выяснилось, что тот был выстроен не очень качественно – кирпичные стены были заполнены строительным мусором. Чтобы они не обвалились, пришлось максимально облегчить правую башню и убрать весь декор. Вот и получились два фасада в одном здании. После Кремля и собора Василия Блаженного это было, возможно, самое известное у иностранцев здание советской Москвы. Дело в том, что именно его силуэт – на этикетке водки «Столичная», которую в 1974 году компания «Пепси K°» стала поставлять в США.