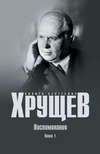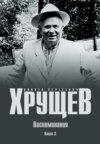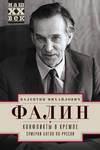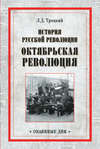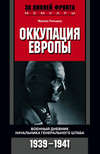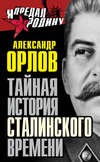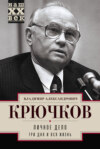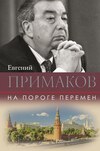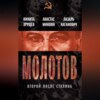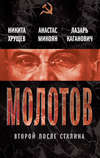Kitobni o'qish: «Воспоминания. Время. Люди. Власть. Книга 1»
© Хрущев Н.С., наследники, 2016
© Хрущев С.Н., иллюстрации, 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Предисловие редактора к первому изданию 1999 года
Завершилась почти тридцатилетняя работа по подготовке издания полного текста воспоминаний моего отца Никиты Сергеевича Хрущева. Когда он начинал диктовать их, то не раз повторял: «Они этого не допустят, я их знаю…» Отец, конечно, имел в виду тогдашних правителей страны: Брежнева, Суслова, Подгорного и других. Действительно, в июле 1970 года рукописи и магнитофонные ленты изъял КГБ. Работа остановилась. Но одновременно этот шаг власти дал толчок к публикации воспоминаний на Западе, в США. Там уже хранилась «резервная» копия воспоминаний.
В 1970 году вышел первый том «Хрущев вспоминает», а в 1974 году – «Хрущев вспоминает. Последнее завещание». Книги произвели большое впечатление на читателя. Советский лидер откровенно делился своими взглядами на мир, обсуждал пути его переустройства, рассказывал, как делалась политика во времена Сталина и в период реформ 1953–1964 годов. Двухтомник переведен с английского на 15 языков и был издан практически во всех цивилизованных странах. Кроме Советского Союза…
От всех предыдущих изданий 70-х годов в США и других странах, а также журнальных публикаций начала 90-х у нас дома нынешнее издание отличается отсутствием каких бы то ни было купюр. В американских изданиях по понятным причинам редактирование происходило без участия автора, без его консультаций. И многое из надиктованного, что, по мнению американских издателей, не представляло интереса для массового западного читателя, редакторы из окончательного текста исключили. В 1990 году в США вышел третий том воспоминаний «Хрущев вспоминает. Магнитофонные ленты гласности». В него вошли отрывки, которые, по соображениям личной безопасности, не были включены в первые две книги: кое-какие секреты, касающиеся ракет, свидетельства работы супругов Розенберг на советскую разведку и другие факты, разглашение которых могло дать властям повод для «принятия мер». Не получили тогда американцы и последние три кассеты диктовок отца. По чисто техническим причинам их не удалось передать.
Публикация воспоминаний отца у нас дома стала возможной лишь в конце горбачевской перестройки. Журналы «Огонек» и «Вопросы истории» первыми стали печатать мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. Начав публикацию воспоминаний с февраля 1990 года, журнал «Вопросы истории» завершил ее спустя пять лет. В этом поступке проявились настойчивость и мужество главного редактора журнала А.А. Искендерова. Вскоре после журнальной публикации издательство «Вагриус» выпустило однотомник воспоминаний. В него вошли отдельные главы из «Вопросов истории». В нашей стране также стала известной пиратская публикация воспоминаний на русском языке Валерия Чалидзе. Это были маленькие желтые книжечки с распечатками отрывков с хранившихся в США в Колумбийском университете магнитофонных лент. И вот теперь, благодаря «Московским новостям», преодолев нелегкий и долгий путь к читателю, выходит первое полное издание воспоминаний в 4 книгах. Страдания и переживания позади… Все пережитое отцом, перипетии создания и публикации его воспоминаний перекликаются, как ни странно, с историей мемуаров другого российского государственного деятеля, реформатора из другой эпохи, тоже председателя правительства – Сергея Юльевича Витте. Оба в своих реформах замахнулись на многое, и обоим далеко не все удалось. Оба покинули свой пост отнюдь не добровольно, но мирно. Оба оказались как бы в тени последовавших за ними куда как менее ярких политиков. Оба писали свои воспоминания приватно, при прямом противодействии властей. Даже изданы воспоминания обоих государственных деятелей были сначала за границей, а уж потом, с большим опозданием, на Родине…
Редактировать магнитофонные записи отца оказалось нелегко. При жизни Никиты Сергеевича я успел обработать около полутора тысяч страниц. По выходным дням мы обсуждали с отцом проделанную мной за неделю работу, вносили поправки и дополнения, и только после этого обретший окончательный вид текст шел в перепечатку.
Когда отец диктовал, ему порой не хватало собеседника, к которому он мог бы обратиться. С участием собеседника, как он говорил, у него появлялся больший интерес к этой работе и воспоминания становились живее. Но не всегда собеседник оставался молчаливым, особенно если это был Петр Михайлович Кримерман, большой друг нашей семьи, экономист, журналист и фотохудожник. Монолог нередко превращался в диалог. По просьбе отца я убирал все, что касалось второго голоса. Впоследствии, пересматривая исходные тексты, я пришел к заключению, что превращение диалога в монолог несколько обедняет текст. Но такова была воля автора, и мы не стали ничего менять в публикации, тем более что это было лишь эпизодически.
После смерти отца работа несказанно усложнилась. Требовалось не только сохранить стиль, но и не упустить ни одного нюанса, ненароком не исказить мысль. Мне кажется, что мы справились с задачей.
Настоящая публикация полного текста мемуаров завершает целый этап и моей собственной жизни, связанной с кропотливой расшифровкой и редактированием почти 4000 машинописных страниц, с работой первоначально по сохранению этих ценных для истории воспоминаний, а затем их публикации.
Вряд ли можно было это сделать успешно одному, без помощников. Одним из первых была Леонора Никифоровна Финогенова. Она одна распечатала все магнитофонные ленты – труд сам по себе гигантский. Если же вспомнить условия тех лет, в том числе и технические, то ее труд воистину можно назвать подвигом. Не сломили Леонору ни запугивания КГБ, ни угрозы лишить ее свободы. К счастью, до ареста дело не дошло.
У истоков этой работы стоял муж моей племянницы Юли, журналист Лев Петров. Его убежденность в чрезвычайной важности мемуаров оказала определенное влияние на решение отца в момент колебаний: «Начинать? Не начинать?» К сожалению, Лева не смог активно участвовать в дальнейшей работе. Вскоре он тяжело заболел, дни его были сочтены. И, конечно, мама, Нина Петровна, – хранитель семейного очага. Она оберегала нашу работу как могла. В самом начале, пока на нашем горизонте не появилась профессиональная машинистка Леонора Никифоровна, мама печатала сама.
Большую работу проделал редактор журнала «Вопросы истории» Анатолий Яковлевич Шевеленко. Он редактировал весь журнальный вариант воспоминаний, сверял все имена и даты, ряд фактов и т. д.
Огромное спасибо тем, кто в те годы рисковал, помогая нам уберечь воспоминания от конфискации, в первую очередь моему другу профессору Московского технического университета (МВТУ им. Баумана) Игорю Михайловичу Шумилову, сохранившему копии магнитофонных лент и распечатки. Часть пленок находилась на хранении у мужа моей покойной сестры Елены профессора Виктора Викторовича Евреинова.
И отец, и я понимали, что все наши усилия могут пойти прахом, если не переправить воспоминания в одну из западных стран. Отправка десятков магнитофонных лент и тысяч страниц рукописи по ту сторону границы – дело непростое. Браться за него самим, без помощников, нечего было и думать. Хорошо, что помощники нашлись. Не все действовали бескорыстно, но не это главное. Они оказались людьми надежными. Я не знаю всех имен. Тогда, в условиях строжайшей конспирации, любое знание таило в себе опасность. Поэтому я назову только некоторых из них. Луи Виталий Евгеньевич взялся «дирижировать» эту опасную затею. Ему это блестяще удалось. На начальной стадии помогал ему Лев Петров. Конечно, все участники этой операции были обыкновенными гражданами, вступившими в игру с профессионалами. И могли «погореть» немедленно. Но в КГБ нашлись люди, которые в силу различных причин решили помочь нам, сделали вид, что ничего не происходит. Одним из них, кажется, был и Юрий Владимирович Андропов. Скорее всего, он уберег нас от неизбежного провала.
С американской стороны судьбой рукописей занимался Джеролд Шехтер, в то время представитель журнала «Тайм» в Москве. Со своей миссией он справился превосходно, а уж как он все это проделывал, кто ему помогал, знает лишь он один. Переводил тексты на английский язык и редактировал их Строуб Тэлботт, человек прекрасной души, высокой научной порядочности. Он донес до читателя не только содержание, но и дух, образ автора, сохранив неизменную благожелательность даже в тех случаях, когда отец весьма резко отзывался о его родине, Соединенных Штатах Америки.
Мой сын, Никита Сергеевич Хрущев-младший, приложил немало сил к тому, чтобы наша общая мечта реализовалась, чтобы книга на русском языке стала реальностью. Осуществить это решили издательский дом «Московские новости» и его президент Вайнштейн А.Л. Редактирование, составление, подготовку к изданию четырехтомника взял на себя Резниченко Г.И., опытный редактор и публицист, в недалеком прошлом ответственный секретарь журнала «Новый мир». Издание включает в себя как сами воспоминания с вариантами магнитофонных записей Н.С. Хрущева, так и сопутствующие тому периоду документы и материалы, которые даются в «Приложении», а также богатый справочный аппарат. Такой подход делает мемуары Н.С. Хрущева доступными более широкому кругу читателей, не только ровесникам описываемых событий, но и тем, кто строит новую Россию. Я сердечно благодарю «Московские новости» и всех его сотрудников, прямо или косвенно причастных к этому изданию.
Сергей ХРУЩЕВ
Предисловие редактора ко второму изданию
В 2014 году исполнилось 120 лет со дня рождения Н.С. Хрущева. Он стоял у руководства Советским Союзом с 1953 по 1964 год, в непростое время становления страны в статусе сверхдержавы и одновременно реформирования политической и экономической структур государства и общества, сравнимых разве что только с реформами Александра II. После отставки Никита Сергеевич выговорился: надиктовал более 200 часов воспоминаний, очень личных и откровенных. В них он рассказывает правду об эпохе, о себе, о людях, которые творили историю, о достижениях и поражениях, радостных событиях и весьма горестных.
Четырехтомник «Воспоминаний» был издан в России «Московскими новостями» в 1999 году и давно разошелся по читателям. Сознавая ценность этого документа для нашей истории, ее понимания новым поколением россиян, и не только их одних, мы намеревались переиздать этот труд к юбилею, но не получилось. Но ничего страшного, главное, сделать дело, хоть и с запозданием.
Нынешняя публикация отличается от предыдущей, она планируется в двух, а не четырех томах, включающих полный текст мемуаров и набор уникальных фотографий из семейного архива, сопровождаемых подробными комментариями и краткими биографиями многочисленных участников событий тех лет.
Мы решили не включать в новый текст усложнявшие чтение варианты диктовок и документы, часто имевшие отношение к эпохе, а не впрямую к Н.С. Хрущеву. Оставили лишь самую малость, без которой оказалось не обойтись. Не обошлось и без добавок. Читатели найдут в приложении хронологию, отражающую публичную активность Н.С. Хрущева: встречи, поездки, совещания и, еще, библиографию публикаций самого автора и о нем, все, что удалось разыскать составителю, Ирине Леандровне Линден, заместителю директора Государственной публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Огромная ей за это благодарность. Нам кажется, что и хронология, и библиография окажутся полезными не только исследователям, но и просто читателям. Решили мы обойтись и без наукообразного предисловия, его место заняло изящное эссе, написанное Андреем Битовым в самолете, по пути из Берлина в Москву.
Сергей ХРУЩЕВ
Краткая биография Н.С. Хрущева
Никита Сергеевич Хрущев родился 15 апреля 1894 г. (по старому стилю – 3-го) в селе Калиновка Курской губернии в крестьянской семье. Работал там по найму пастухом, в зимние месяцы учился в начальной школе.
В 1908 г., когда Никите исполнилось 14 лет, его семья переехала в Донбасс на Успенский рудник, недалеко от Юзовки. Здесь Никита снова нанялся пасти коров, чистил котлы на шахтах. Вскоре его взяли на завод учеником слесаря. Он учился и помогал ремонтировать оборудование окрестных рудников.
В 1912 г. 18-летний Никита Хрущев участвовал в сборе денежных пожертвований на заводе в пользу семей рабочих, убитых на Ленских приисках. Известие о Ленском расстреле вызвало забастовки и в Юзовке. По требованию пристава Хрущева в числе других активистов стачки уволили с завода. Он стал работать слесарем на крупной по тому времени шахте № 31.
В 1917–1919 гг. Н.С. Хрущев был избран председателем комитета бедноты села Калиновка. Участвовал в Гражданской войне. В 1925 году он окончил рабочий факультет Донецкого индустриального института, в 1929 году учился в Промышленной академии в Москве. Затем была государственная и партийная работа:
1924–1930 гг. – на партийной работе в Донбассе, Харькове и Киеве.
1931–1932 гг. – секретарь Бауманского, Краснопресненского райкомов партии г. Москвы.
1932–1934 гг. – второй секретарь Московского городского комитета партии.
1934–1935 гг. – первый секретарь МГК и второй секретарь МК партии.
1935–1938 гг. – первый секретарь МК и МГК партии.
1938–1949 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Украины, Киевского обкома и горкома партии.
1944–1947 гг. – одновременно Председатель СНК (с 1946 г. Совета Министров) Украинской ССР.
1941–1945 гг. – член военных советов юго-западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов, вел большую работу по организации партизанского движения на Украине.
В 1943 г. присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
1949–1953 гг. – секретарь ЦК ВКП(б) (КПСС), одновременно первый секретарь Московского областного комитета партии.
1953–1964 гг. – первый секретарь ЦК КПСС.
1958–1964 гг. – одновременно Председатель Совмина СССР.
1956–1964 гг. – одновременно председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
С 1964 г. – на пенсии. 14 октября 1964 г. освобожден пленумом ЦК КПСС от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совмина СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 1—6-го созывов, депутат Верховного Совета РСФСР 2—5-го созывов.
Член партии с 1918 г. С 1934 г. – член ЦК партии; в 1938–1939 гг. – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б); 1939–1952 гг. – член Политбюро ЦК КПСС; 1952–1964 гг. – член Президиума ЦК КПСС.
Трижды Герой Социалистического Труда. Герой Советского Союза. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Награжден орденами и медалями Советского Союза.
Жена, Нина Петровна, преподаватель, умерла в 1984 г. Сын, Сергей Никитич, доктор технических наук, инженер по электронике и системам управления. Дочери Юлия, Рада, Елена. Сын Леонид погиб на войне.
Откуда идет род Хрущевых
(Историческая справка)
За основу поиска взяты «Воспоминания Н.С. Хрущева», биографические справки из второго и третьего изданий Большой советской энциклопедии и вышедшая в 1990 году книга публициста Ф. Бурлацкого «Вожди и советники», где приведены факты, относящиеся к курскому периоду жизни Н.С. Хрущева.
Во втором издании Большой советской энциклопедии (1957 год) сказано: «Хрущев Никита Сергеевич родился 17 апреля 1894 года в семье рабочего-шахтера в с. Калиновка Курской губернии». Дата рождения указана по новому стилю. В третьем издании БСЭ (1978 год) дата рождения указана уже по старому и новому стилю – 5 и 17 апреля 1894 года и сказано, что Н.С. Хрущев родился в семье шахтера. Ф. Бурлацкий в книге «Вожди и советники» называет дату рождения (по старому стилю) 4 апреля, допуская, таким образом, ошибку при пересчете с нового стиля (17 апреля) на старый. Пересчитывая даты прошлого века, прибавляют 12 дней, а с XX века – 13.
В архивном фонде «Церкви Курской губернии» удалось разыскать метрические книги Архангельской церкви за 1894 год с указанием дня и года рождения Н.С. Хрущева. Эта церковь находилась в родном селе Никиты Сергеевича – Калиновке Дмитриевского (Дмитросванского) уезда Курской губернии, и там должна была быть запись о рождении в семье Хрущевых младенца. И вот эта метрическая запись. Она гласит о том, что 3 апреля (по старому стилю, а по новому – это 15 апреля) у крестьянина села Калиновка Сергея Никаноровича сына Хрущева и законной жены его Аксиньи дочери Ивановой родился сын. В тот же день был крещен и наречен Никитой. Его крестными родителями стали «того же села крестьяне Стефан Николаев сын Зуев и Варвара Васильева дочь Худякова».
Таким образом, архивные документы свидетельствуют: Никита Сергеевич Хрущев родился не в семье шахтера, а в семье крестьянина и не 4 или 5 апреля, как указывают официальные издания, а 3 (по новому стилю – 15) апреля 1894 года.
Выявив эту первую метрическую запись, решено было проследить генеалогию крестьянского рода Хрущевых.
Основным источником при поиске этих сведений стали хранящиеся в архивном фонде Курской казенной палаты ревизские сказки – документы переписи населения дореволюционной России. Использовались и частично сохранившиеся за несколько лет документы уже упоминавшейся Архангельской церкви. Сложность заключалась в том, что последняя, 10-я ревизия проводилась в 1858 году, а это означает, что в лучшем случае можно было рассчитывать на выявление сведений, имевших отношение к деду Н.С. Хрущева. В исповедной ведомости Архангельской церкви за 1866 год была найдена запись лишь об одной семье Хрущевых, глава которой – Сергей Федорович Хрущов (так в тексте) – 70 лет; его жена Ульяна Ермолаева – 54 лет; их дети Иван, Николай, Мария и 14-летний Никанор. Следовательно, Никанор – это дед Никиты Сергеевича. Можно считать это достоверным, так как отца Н.С. Хрущева звали Сергей Никанорович.
Следующий шаг – в глубь времен. В ревизских сказках за 1858 год (10-я ревизия) среди крестьян села Калиновка (крепостные помещицы тайной советницы Елизаветы Федоровны Левшиной) сведения есть также лишь об одной семье Хрущевых, глава которой Андрей Фомич Хрущев умер в 1851 году в возрасте 72 лет. Детей, по-видимому, у него не было, но упомянут племянник – Сергей Федорович, жена племянника – Ульяна Ермолаева и их дети – Иван, Николай, Мария и Никифор. Значит, в ревизской сказке и в исповедной ведомости речь идет об одной и той же семье. Есть, однако, одно расхождение: значащийся в исповедной ведомости 14-летний Никанор в ревизской сказке записан как Никифор. Это явная описка. Нет сомнений, что речь идет об одной и той же семье.
В ревизских сказках 9-й ревизии (1850 год), а затем и 8-й (1834 год) выяснились два интересных момента. Первый: оказывается, семья Андрея Фомича Хрущева была перевезена в Калиновку в 1834 году из соседнего села Хомутовка того же Дмитриевского уезда, очевидно, по распоряжению помещицы. И второй: Сергей Федорович и Федор Фомич Хрущевы, по переписи 1834 года, «показаны в бегах» с 1816 года. Правда, затем отдельно в ревизской сказке о «лицах, явившихся из бегов» указан Федор Фомич Хрущев – 53 лет. О сыне же его Сергее не упоминается. Видимо, он вернулся в родное село позже 1834 года.
Сведения о Федоре Фомиче и Сергее Федоровиче Хрущевых прослеживаются до 1811 года включительно, когда проходила 6-я ревизия.
В Калиновке Хрущевы прожили до 1908 года.
Как и во многих селах России, в Калиновке, как уже говорилось, была церковь, построенная еще в 1760 году. К числу местных достопримечательностей можно было отнести и помещичий дом. О нем вспоминал впоследствии Никита Сергеевич как о единственно уцелевшем строении – «дворце» – из всего разрушенного во время революции, «разобранного по кирпичам помещичьего хозяйства».
В 1906 году в Калиновке была открыта земская школа, здесь учился маленький подпасок Хрущев. Никита Сергеевич вспоминает Калиновскую школу и своих одноклассников Алюскина и Слободчикова. А в своих выступлениях не раз упоминал свою первую учительницу Лидию Михайловну Шевченко, есть даже кадры кинохроники 50-х годов – Лидия Михайловна и Н.С. Хрущев на студенческой новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
На курской земле побывал Никита Сергеевич в 1919 году. Он воевал в рядах Красной Армии в составе частей 9-й стрелковой дивизии и в родную Калиновку приехал навестить жену и детей, которые жили у его родителей. Свидание оказалось трагическим – молодую свою жену Евфросинью он увидел в гробу, она умерла от тифа.
В 1943 году, накануне Курской битвы, член Военного совета Воронежского фронта Н.С. Хрущев своими глазами видел разоренную войной, испепеленную курскую землю. Послевоенные посещения Хрущевым Курского края носили как официальный, так и частный характер. В архиве сохранились фотографии его приездов в Калиновку, на Михайловский горно-обогатительный комбинат и Курское производственное объединение «Химволокно».
Л. ЛАСОЧКО, сотрудник Государственного архива Курской области