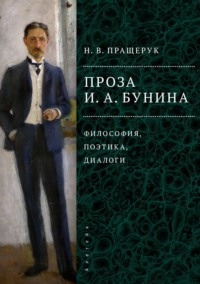Kitobni o'qish: «Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги»
© Н. В. Пращерук, 2022
© Уральский федеральный университет, 2022
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022
I
Проза И. А. Бунина: философия и поэтика
Вместо введения. О типе художественного сознания И. А. Бунина
Ранее, анализируя вершинные прозаические произведения И. А. Бунина, мы определяли тип его художественного сознания как феноменологический, содержательно обосновывая это понятие целой системой аргументов1. Нельзя сказать, что сейчас – при современном состоянии буниноведения – термин утратил свою актуальность, однако очевидно, что он нуждается в уточнении и дополнении. Это связано с необходимостью скорректировать, углубить наше понимание того, каким является бунинский тип художественного сознания, взятый системно и в функциональном аспекте, определяющий законы выстраивания произведений писателя, практику его письма.
Бунин – художник и человек – по его собственному лирическому признанию, был «обречен познать тоску всех стран и всех времен», и это его редкое качество всеотзывчивости прямо связано с тем, что по охвату изображенного, по спектру освоения культурных, литературных и религиозно-философских традиций он представляет тип художественного сознания универсалистский, способный синтезировать в своем творчестве различные ценностные и эстетические смыслы. Пытаясь постичь сущность бунинской метафизики, ученые исследовали в его мире буддистскую и шире – восточную религиозно-философскую составляющую, которая в ряде случаев трактовалась в качестве определяющего мировоззренческого вектора2, «ветхозаветное ядро»3, романтические и шеллингианские аллюзии, связи с европейской и русской философией ХХ века, более органичную для русского художника христианскую/православную духовную традицию4, мифопоэтику, базирующуюся на общекультурном символизме, и др. В такой разноголосице подходов определяющим становился тот, который напрямую обусловлен субъективным мировоззренческим выбором исследователя, если только изначально не учитывалась специфика художественного сознания Бунина именно по широте/спектру освоения им опыта самых разных его предшественников.
Насколько чуток Бунин был к «чужим» открытиям в понимании мира и человека, можно судить по многим и многим его произведениям. В «Тени птицы», например, он осваивает многоликий и многовекторный Восток – языческий, исламский, библейский – ветхозаветный и новозаветный: повествователь – alter ego автора – помнит «отблеск закатившегося Солнца Греции», думает «словами Корана», слышит «ветхозаветный скрип» колес, ощущает живое присутствие Христа в местах, отмеченных его земным пребыванием, сквозной «солнечный сюжет» книги выстраивает, опираясь на общекультурную символику: солнце – символ жизни и духовной активности, знак света истины; Христос как истинное Солнце; искажающий истину свет луны и др. В «Братьях» и «Снах Чанга» нам явлен буддистский Восток, а в «Жизни Арсеньева» – в постижении тайны жизни главным героем и его «вхождениях» в эту тайну – зримо и незримо присутствует русская и европейская философская традиция ХХ века. Особенно дорогие, запомнившиеся моменты таких «вхождений» специально обозначены, выделены в тексте. Вот лишь немногие из них: «Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало?»5; «…и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, <…> но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата» (6, 91–92); «Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы. <…> И во всем была смерть, смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!» (6, 105); «…все-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей <…> есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, <…> есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течения несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем, а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, не-кий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить “…Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь” И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?» (6, 152–153); «Ужасна жизнь! Но точно ли “ужасна”? Может, она что-то совершенно другое, чем “ужас”?» (6, 233); «Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности пронзительной сложностью» (6, 238); «Жизнь и должна быть восхищением» (6, 261). Авторская интенция, как бы «схваченная» этими отдельными высказываниями-воплощениями, напитана во многом идеями философии жизни. Сравните, например, приведенную здесь большую цитату из бунинского текста (6, 151–152) с рассуждением А. Бергсона: «Замысел жизни, единое движение, пробегающее по линиям, связывающее их между собою и дающее им смысл, ускользает от нас»6. Жизнь не знает различения материи и духа (6, 91–92), совмещает полюсы бытия (жизнь – смерть, земное – небесное (6, 105)), воплощает, несет в себе творческую динамику этого бытия (6, 238, 261). Жизнь можно «улавливать», постигать, вероятно, только с помощью «простираний» – интуиции, все новых «проживаний», а отнюдь не с помощью рациональных, логических операций.
Бесспорно, что Бунину, в отличие от Горького и Андреева, испытавших особенно сильное влияние ницшевского варианта философии жизни, более близки идеи той линии, которая представлена именами А. Бергсона (концепция интуитивного постижения жизни, разработка проблемы времени), В. Дильтея (герменевтическая направленность, обращенность к сфере исторического опыта, духовной культуры), отчасти С. Кьеркегора (тема широты сознания как формы экзистенции, отношение к смерти как к конститутивному элементу самой жизни – сравните его высказывание: «Мышление к смерти уплотняет, концентрирует жизнь»). Эта линия затем блестяще продолжена европейской и русской философией XX в. Книга обнаруживает «ситуации встречи» Бунина и Гуссерля, Хайдеггера, Флоренского, Н. Лосского с его работой «Обоснование интуитивизма», Н. Бердяева, Г. Шпета и др. Другими словами, Бунин-художник осваивает не только религиозно-философские традиции прошлого, но и очень чуток к современному пониманию человека и мира7.
Говоря о широте и объемности задействованного им опыта других и опыта прошлого, мы должны учитывать и особый способ освоения этого опыта, а именно, артистический. Этот способ помогает Бунину, например, в «Тени птицы» при такой плотности введенного в текст книги «чужого» содержания сохранить легкость и свободу, особую органику повествования и описаний, избежать перегруженности сведениями и фактами из истории и мифологии или цитатами. Сознательная ориентация писателя на «чужое слово» выбирает форму изящной непреднамеренности, счастливой «случайности» невзначай явившегося откровения. Такой эффект как раз и достигается благодаря редкому артистизму художника, способности, которой он был наделен в большей степени, чем кто-либо другой (в этом он, пожалуй, сродни только Пушкину), чувствовать и понимать «чужое» как «свое»: «думаю я словами Корана»; «вспоминаю я восклицание Давида» и т. п. Г. Кузнецова приводит в своем дневнике такое очень характерное для Бунина признание: «Я ведь чуть побывал, нюхнул – сейчас дух страны, народа – почуял. Вот я взглянул на Бессарабию – вот и “Песня о гоце”. Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад»8. Способность к перевоплощению рождает в тексте феномен «расширяющегося» сознания: повествователь, не утрачивая личностной определенности, удивительно пластичен по отношению к различным культурам и религиям, он органично ощущает себя в роли эллина и мусульманина, ветхозаветного человека и христианина. (Чуть позднее Бунин откроет для себя и буддизм.)
В «Тени птицы» есть поразительные страницы, свидетельствующие о возможностях индивидуального человеческого сознания в «проживании» и возвращении настоящему прошлого всего человечества. Авторская интенция вполне очевидна: небытию противостоит реальность вечно пребывающего и каждый ряд воссоздаваемого заново пространства культуры. «Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого родился Моисей. Через сорок – пришел из берегов Тивериадского моря Иисус. <…> Но исчезают века, тысячелетия, – и вот братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни» (3, 355). Это один из многих примеров конкретно обозначенной и художественно запечатленной ситуации именно «артистического» «выхода из истории», приобщения к бесконечности. Возвращение прошлого «вечному настоящему» сопряжено с «умножением» и собственной жизни героя «на много тысяч лет».
Благодаря артистическому вживанию в прошедшее, оно (прошедшее) не восстанавливается из последовательно добавляемых один к другому эпизодов, а «является», возвращается как бы отдельными воплощениями, обязательно при условии сопряжения с личным экзистенциальным опытом повествователя и в его «живом присутствии». По существу, весь текст «Тени птицы» есть серия «явлений» и «возвращений», блистательно завершенная в финальном рассказе образом «возвращения» Христа: «Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот Он, с раскрытой головою в белой одежде, идет по берегу мимо таких же рыбаков, как наши гребцы <…> Симон и Петр, “оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за Ним”» (3, 410). Артистический дар Бунина органично дополняется и даром живописания. М. Мамардашвили называл это качество стиля, правда, применительно к Марселю Прусту, «пластическим выплескиванием фундаментальных вещей»9.
Между тем формула М. Мамардашвили может быть обращена не только к природе стиля Бунина, она непосредственно связана с принципом развертывания его художественных миров, ибо «пластическое выплескивание фундаментальных вещей» – это, другими словами, и есть «являющиеся сущности» – феномены в их неклассическом понимании, то есть «себя-в себе самом-показывающие» (Хайдеггер). Бунин одним из первых художников и очень лично ощутил недостаточность представлений о противопоставленности субъекта и мира, гениально угадал поворот в культурном сознании XX в., который связан с преодолением многих аксиом классической философии. Мир и человек для него образуют единство (das Eins по Хайдеггеру), субъект и объект неразрывны. Уже в конце века он формулирует в одном из писем свое «феноменологическое кредо»: «Мир – зеркало, отражающее то, что смотрит в него»10, а в ранних рассказах «примеряет» позицию отношения к жизни как к «сознанию, пущенному в материю»11. Природный и материальный мир для Бунина непосредственно являет смысл и «прозрачен» для духовного/ символического содержания. Такое мироощущение «питает» многие образы-впечатления повествователя и героев в произведениях 1890–1900-х гг.: «…думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает» (2, 223); «И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство – томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере» (2, 243); «Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде» (2, 266).
Однако бунинский феноменологизм ранних прозаических вещей еще нуждается в кристаллизации, стилевой оформленности, он «живет» в тексте пока на уровне мотива, догадки, спонтанных интуитивных вспышек. Можно сказать, что именно цикл «Тень птицы» стал для Бунина художественно воплощенным «феноменологическим» самоопределением. Бунин использует мотив яркого, последовательно проводя его через весь текст и сообщая ему функцию образной и смысловой доминанты. Яркость – знак соединенности «я» и «не-я», поскольку связан как с «качеством» окружающей реальности, так и со спецификой ее восприятия, отношения к ней. Видеть мир во всей яркости его проявлений – значит быть «настроенным» на него, открытым ему и не «обремененным» грузом предшествующих, «опосредующих», стирающих свежесть восприятия впечатлений: «яркой бирюзой сквозит вода»; «ярко зеленеют деревья» (3, 325); «яркая густая синева неба» (3, 326); «яркая лента неба льется» (3, 337); «было ярко» (3, 342); «яркая синь утреннего неба» (3, 346); «белые яркие стены» (3, 346); «ярко-зеленое дерево» (3, 353); «пирамида <…> восходит до ярких небес» (3, 355); «пустыня <…> ярко подчеркивает сине-лиловое небо» (3, 355); «…небо над базаром ярче» (3, 360); «яркое небо» (3, 370); «ярко-пунцовая герань»; «… глянул Джебель-Кемэзэ весь в ярких серебряных лентах» (3, 398); «изумительно-яркое поле неба» (3, 399); «ярко млела синь неба» (3, 405). Подобную функцию выполняет в «Суходоле» мотив темного, также соединивший в себе «качество» жизни суходольцев, образ их мира и состояние души и духа, при котором «сны порою сильнее всякой яви». Феноменологический дар Бунин-художника с максимальной полнотой проявился и в его главной книге – «Жизнь Арсеньева». Именно там, в одном из эпизодов, когда Арсеньев и Лика ведут разговор о поэзии Фета, Бунин словами своего героя очень четко и определенно формулирует свою позицию: «Нет никакой отдельной от нас природы, <…> каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214). В соответствии с этой установкой и созидается в книге пространство жизни Алексея Арсеньева, в котором преодолевается власть исторического времени, прошлое переживается как всегда пребывающее с нами настоящее, а напряженная телесность, предметность, вещественность жизненного мира персонажей прорастает символическими смыслами. Конкретность проживаемых здесь и сейчас эпизодов прошедшего, явленных даром живописания Бунина и организованных им по принципу «рядоположенности картин», соседствует с разветвленной системой образов, с помощью которых создается сложный мифопоэтический подтекст книги.
Вместе с тем, несмотря на широкое обращение к общекультурному символизму, именно в «Жизни Арсеньева», может быть, в большей степени, чем в других произведениях, Бунин обозначает духовные константы своего мира.
Речь пойдет о христианском/православном векторе бунинской религиозности. Вопрос для буниноведения не новый, но до сих пор остающийся дискуссионным. Если обобщить точки зрения ученых, то можно сказать следующее. Ряд исследователей12 полагает, что бунинское творчество в основе своей христианское по духу, по антропологии и аксиологии. Другие, напротив, считают, следуя за резкой концепцией И. Ильина13, бунинский мир и бунинского человека «додуховными», отказывают художнику в близости к православию14. Автор известной монографии Ю. Мальцев вообще говорит о том, что Бунин, так и не преодолев своего сложного отношения к христианству, «в старости <…> выработал нечто вроде собственной религии, в которой Богом было человеческое Я»15. Такой вывод воспринимается как весьма проблематичный и бездоказательный. В некоторых работах звучат суждения о внеконфессиональной религиозности писателя. В них очевидно желание исследователей примирить художественно-философские поиски Бунина, связанные с восточными религиозными системами, в частности с буддизмом, и устремленность писателя к духовным корням. Есть даже радикальные попытки вписать Бунина с его творчеством сугубо и безоговорочно в буддизм16.
Нам же представляется закономерным обратиться к главной книге Бунина, не только ставшей вершиной его мастерства как художника слова, но и сокровенно связанной именно с духовным миром писателя. И это обусловлено не только автобиографическим характером «Жизни Арсеньева», но и особой жанровой и повествовательной природой книги, обеспеченной особым авторским статусом. Лучше других сущность бунинского новаторства выразил К. Зайцев в своей монографии: «Это не художественная автобіографія, въ которой переплетается вымыселъ и правда, а именно опытъ метафизическаго перевоплощенія въ самого себя, опытъ воплощенія въ творческомъ словѣ этого метафизическаго перевоплощенія»17. Другими словами, как будто предваряя многие и многие исследования памятицентризма (память/прапамять и проч.) в этом произведении, К. Зайцев стремился акцентировать другое – а именно то, что за памятью – глубиннее, больше и, если можно так сказать, онтологичнее памяти. «Опыт метафизического перевоплощения в самого себя, опыт воплощения в творческом слове этого метафизического перевоплощения» означает, по существу, дерзновенную попытку Бунина, опираясь на собственное видение художника, добраться «до оснований, до корней, до сердцевины» собственного «я», жизни этого «я» и, возможно, распространить этот опыт на жизнь человеческую вообще. То есть память, которая «не спорит со временем, а властвует над ним»18, – это только слой содержательного палимпсеста книги. Следуя за художником, мы словно снимаем этот слой и погружаемся в духовные глубины, именно в духовные основания человеческого бытия. Нам явлен опыт вхождения в реальность духовного, соединяющий земное и небесное, явлен художественным словом высочайшего качества. Вся сила и новизна явленного связана еще и с особым качеством изображенного / увиденного / воссозданного земного мира в его потрясающей, вероятно, так никем и не превзойденной щедро-роскошной вещественности, завораживающей нас и как будто уводящей от устремлений духа. Плен очарования земным, думаю, знаком каждому читателю Бунина и «Жизни Арсеньева», в частности. Логично вспомнить бунинского оппонента: «Тут “земляная карамазовская сила”, как отец Паисий намедни выразился, – земляная и неистовая, необделанная. <…> Даже носится ли дух Божий вверху этой силы – и того не знаю»19. Другими словами, насколько герой и автор остаются привязанными к земному, живут ли на разрыве земного с небесным, мечутся между ними или все же обретают понимание того, что христианство есть «спасение жизни»20, а не от жизни? Получается, что сверхзадача книги не в освобождении от времени или не только в освобождении от времени, а в духовных странствиях, опирающихся на возможности уникальной бунинской памяти и устремленных к постижению духовного строя Арсеньева. Не случайно сам художник оставил в дневниках такую запись: «Весь день за письм. столом – переписывал итинерарий своей жизни и заметки к продолжению “Арсеньева”»21. В данном случае «итинерарий жизни» – метафора, отсылающая к жанру паломничеств и одновременно проясняющая авторскую установку именно на «метафизическое перевоплощение» в книге, на стремление к святыням.
Динамика духовных состояний героя достаточно подробно проанализирована нами ранее22, поэтому остановимся лишь на самом показательном. В первой книге обозначены подступы к вхождению в мир православия, но определяющим становится острое переживание онтологического разрыва между тварным миром и Богом. И, пожалуй, только в завершающей главе, как будто совершенно не связанной с церковной проблематикой, намечаются пути преодоления этого разрыва. Подросток Арсеньев догадывается о том, что жизнь земная иллюзорна, похожа на скоропреходящий сон: «Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убегал куда-то. <…> И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства – все сон!» (6, 54–55). Автор духовной прозы Е. Р. Домбровская, глубоко связанная со святоотеческой традицией, отмечает в своих комментариях духовную (богословскую) прозорливость/точность этой главы. Догадки Арсеньева о земной жизни-сне подтверждаются святоотеческим наследием. «Правда, по учению Церкви, – замечает Е. Р. Домбровская далее, – человек-то в ней (то есть в жизни. – Н. П.) должен бодрствовать, а как это делать, учит Евангелие. И антиномично вторит “Апостол” – “искупующе время, яко дние лукави суть” (Еф. 5:16). Дни и время – лукавы, обманны, потому и жизнь – сон <…> эта главка, верная в глубинной сути своей, в предначинательной постановке вопроса (своего рода духовный пролог ко второй части), становится ступенькой в жизнь. А какой она будет, жизнь Алеши? – ответ на вопрос о духовном бодрствовании, – главный вопрос всякой жизни» (личный архив, 17.02.2019). Именно этот ключевой вопрос, тонко уловленный современным автором в интуициях Арсеньева, помогает связать эту главу, а также всё ей предшествующее с кульминационным эпизодом во второй книге. Имеется в виду описание вечерней службы и участия в ней подростка Арсеньева. Герой захвачен переживанием всенощной со всеми ее участниками, со всеми атрибутами и навсегда запавшими в душу подробностями. Очевидно, что Арсеньеву хорошо известен «состав» всенощного бдения, он следует канону, поскольку, по его признанию, «все это стало как бы частью» его души, «и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, с вящей родственной готовностью» (6, 75). Мотив родного, соединенный с мотивом тишины, тихого света, является определяющим для этой сцены. Личным чувством причастности к происходящему в церкви окрашены многие и многие образы, приходящие из памяти. Можно сказать, что душе, подготовленной к открытию, высшая реальность открывается сама. Поэтому закрывающиеся и открывающиеся во время службы царские врата воспринимаются как знамение «то нашего отторжения от потерянного нами рая, то нового лицезрения его», «дивные светильничные молитвы» выражают «скорбное сознанье нашей земной слабости» и надежду на грядущее спасение. Стихиры «Свете тихий» со словами «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний…» рождают «видение какого-то мистического Заката», а «тот таинственный и печальный миг, когда опять воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи» переживается как «погружение в темную ветхозаветную ночь». Автор не случайно выбирает из церковных служб всенощное бдение, а не литургию. Именно эта служба требовала от православных особого усердия, совершалась в течение целой ночи до рассвета и предполагала «духовное рвение». Исторически она была связана с заповедью, данной Христом апостолам: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий»23. Так акцентируется едва намеченная поначалу тема сна и бодрствования, уже напрямую выведенная в собственно церковный, религиозный, духовный план. Стоит специально упомянуть и тот факт, что воссозданная памятью героя служба проходит в Церкви в честь Праздника Воздвижения Креста Господня, «в церковке Воздвиженья». Смысл и символика праздника Воздвижения связаны с событием обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы – места Распятия Иисуса Христа. «Крест – глава нашего спасения; Крест – причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов; через него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали истину; через него мы, прежде поклонявшиеся деревьям и камням, теперь познали Спасителя всех; через него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности, через него земля, наконец, сделалась небом»24. Столь личное описание Всенощного бдения именно в «церковке Воздвиженья», вероятно, тоже можно трактовать как свидетельство обретения героем Креста, хотя бы на время соединившего небо и землю («земля, наконец, сделалась небом»), преодолевающего онтологический разрыв в его мирочувствовании. Очень важная веха в жизни Арсеньева. Это еще и интуиция обретения личного креста – собственного пути. Именно так можно трактовать и один из финальных эпизодов книги: «Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь. <…> Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя, на налое лежал медный крест, <…> перед ним стояли священнослужители и умиленно-горестно пели: “Кресту твоему поклоняемся, владыко”» (6, 245–246). Семантическая и образная объемность этого эпизода такова, что в нем может быть акцентировано даже противоположное: герой как будто покидает церковь, однако покидает – совершившим выбор, с твердым осознанием принятого решения. И решение его можно трактовать не только в проблематике выбора пути творческого человека, но и в аспекте духовном – принятия человеком собственных крестов. А это очень важный итог «опыта метафизического перевоплощения в самого себя», свидетельствующий о стяжании героем духовного «самостоянья». Такова реальность художественного текста/мира главной книги писателя, во многом проясняющая специфику религиозного опыта автора и позволяющая утверждать, что по онтологии и аксиологии Бунин представляет христианский/ православный тип художественного сознания.