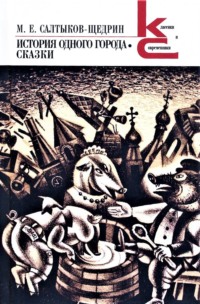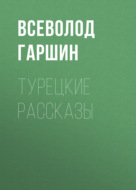Kitobni o'qish: «История одного города. Сказки»
Издательство выражает благодарность Талдомскому историко-литературному музею за предоставление иллюстраций для книги

На обложке использованы иллюстрации к сказкам «Кисель» и «Медведь на воеводстве».
Художник В. В. Окунь

© Издательство «Художественная литература», 2021.
© Муниципальное бюджетное учреждение «Талдомский историко-литературный музей», иллюстрации, 2021.
«Прокурор русской общественной жизни и защитник России…»
«Как сатирик он не имеет себе равного…» – говорил И. С. Тургенев.
Соратник Н. Чернышевского, Н. Добролюбова и Н. Некрасова, М. Салтыков-Щедрин оказал огромное влияние на русскую и мировую литературу.
Родился Михаил Евграфович Салтыков 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии (ныне Талдомский район Московской области) в семье богатых помещиков. Был шестым ребенком потомственного дворянина и коллежского советника Евграфа Васильевича Салтыкова и Ольги Михайловны (в девичестве – Забелиной).
«Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права. Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольною массою, но и во все вообще формы общежития…»
Огромный дом стоял почти на голом месте. За барским имением на многие версты тянулась болотистая равнина, покрытая хвойным лесом. Местность эта, по словам писателя, «самой природой предназначена была для мистерий крепостного права».
В доме полновластно господствовала мать – Ольга Михайловна. Она не только поставила на ноги оскудевшее, разорившееся поместье мужа, но и в короткий срок удесятерила состояние семьи. Много лет спустя Щедрин так описывал своих родителей: «Отец был по тогдашнему времени порядочно образован… вовсе не имел практического смысла… мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загадывала и действовала молча и наверняка…»
В семье Салтыковых дети делились на «постылых» и «любимчиков», но, несмотря на это, методы воспитания были одинаковы для всех. Братья и сестры не очень любили маленького Мишу, «любимчика», за прямоту и резкость суждений о них, за смелость и независимость характера.
Впоследствии писатель Салтыков-Щедрин, создавая сатирические типы, оживлял в своей памяти образы и картины действительности, увиденные им в детстве, крепостнический произвол, который видел мальчик. Именно с этого и началось формирование Салтыкова-Щедрина как борца против всех форм угнетения.
Первым учителем был крепостной человек его родителей – живописец Павел Соколов, потом с ним занималась старшая сестра, священник соседнего села, гувернантка и студент Московской духовной академии.
Еще дома Михаил увлекся чтением. В десять лет поступил в Московский дворянский институт, созданный из Университетского пансиона. Он сразу сдал экзамены в 3-й класс. Институт находился на месте, где сегодня расположено здание центрального телеграфа на улице Тверской. В начале XIX века Университетский пансион был одним из лучших прогрессивных учебных заведений. В нем учились поэты-декабристы, А. Грибоедов, а также М. Лермонтов, П. Вяземский, Е. Баратынский, В. Жуковский, Л. Мей и другие. Ко времени поступления туда Михаила в 1836 году там сохранялись еще старые добрые традиции, но через год, по приказу императора Николая I, начались перемены, как, впрочем, и в Царскосельском лицее, куда волею начальства и по настоянию матери он как один из лучших учеников был переведен в 1838 году казеннокоштным пансионером. Лицей уже был далеко не таким, как при А. Пушкине, находился под пристальным полицейским надзором, поскольку был призван воспитывать кадры высших чиновников.
Вспоминал Михаил, как неуютно чувствовал себя здесь в «годы ранней юности… проведенные под сенью «заведения», в котором почти исключительно воспитывались генеральские, шталмейстерские, егермейстерские дети, вполне сознававшие высокое положение, которое занимают в обществе их отцы». Товарищи-аристократы называли Салтыкова насмешливо «умником», хотя это не мешало им признавать его бесспорные способности.
Окончив в 1844 году лицей, Салтыков вынес помимо школьной науки еще и неподдельный интерес к социальным вопросам. И посему неверноподданный чиновник начал свою службу в канцелярии военного министерства, а уже через три года он всерьез занялся литературной работой.
Резкую и определенную оценку классовым противоречиям в России конца 40-х годов позапрошлого века Салтыков дал в повести «Запутанное дело», написанной в 1848 году. Повесть вышла из печати в дни революционных событий во Франции и немедленно попала в поле зрения царской охранки. Она была рассмотрена вместе с повестью «Противоречия», и уже через месяц, 26 апреля, императором Николаем I был подписан приказ о ссылке Салтыкова в Вятку.
Так начал свой путь литературной и общественной деятельности М. Салтыков (Н. Щедрин).
Двадцатидвухлетний юноша в мае 1848 года отправился к месту ссылки, в Вятку, и более 10 дней проезжал мимо деревень и провинциальных городков, встречавшихся на пути. Добравшись до Вятки, он решил посвятить эти годы изучению народной жизни. Умный, деловой и активный молодой человек был вскоре назначен чиновником особых поручений. Он ревизовал уездные учреждения, разбирал тяжбы помещиков и крестьян.
О его службе в Вятке сохранилось мало сведений, но в записях, найденных после смерти М. Е. Салтыкова в его бумагах, он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они давали ему возможность быть полезным народу.
«Провинциальная жизнь – великая школа, но школа очень грязная…» – писал Михаил Евграфович 22 декабря 1852 года брату Дмитрию. Эту школу с честью прошел Салтыков, не запятнав своей совести и души, познав всю глубину народных страданий. Годы ссылки укрепили в нем революционно-демократические взгляды и дали материал для большинства его последующих сатирических хроник. «Судьба ставила меня в прямые отношения к живым силам народа», – писал он впоследствии.
Разрешение о возвращении было получено М. Салтыковым только после смерти Николая I. В январе 1856 года он приехал в Петербург, а через несколько месяцев вся прогрессивная Россия узнала имя нового писателя, и оно сразу стало одним из самых любимых и популярных. Надворный советник Щедрин – так он подписывал с 1856 года «Губернские очерки», появлявшиеся в «Русском вестнике».
В 1858 году Салтыкова назначают вице-губернатором в Рязань. Это было время общественного подъема, подготовки освобождения крестьян от крепостного права.
Приняв дело, Салтыков сразу же заявил: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа! Очень, слишком даже будет!» Началась непримиримая борьба со злоупотреблениями чиновников и помещиков. В Петербург полетели жалобы и доносы. Вскоре вице-губернатора Салтыкова стали называть здесь «вице-Робеспьером». Люди, близко знавшие Щедрина, свидетельствовали о том, что этот внешне суровый человек волновался и горел по поводу всякой несправедливости. Через два года рязанский губернатор добился, чтобы его из города убрали. Салтыкова перевели вице-губернатором в Тверь, там его и застала реформа «освобождения крестьян». Здесь выходили статьи Салтыкова по земельному вопросу, в которых он защищал крестьян.
В начале 1862 года М. Е. Салтыков оставил службу и вошел в состав редакции журнала «Современник» в тот момент, когда Н. Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость.
Вместе с редактором журнала Н. Некрасовым, вопреки жестоким гонениям цензуры, Н. Щедрин продолжал революционно-демократическую линию Чернышевского. Но разногласия с либеральной группировкой внутри редакции заставили его вновь уйти служить, на этот раз в Министерство финансов. М. Е. Салтыков был назначен председателем Казенной палаты в Пензе, но вскоре перешел на соответствующую должность в Тулу, а через год – в Рязань. Причиной стало обострение отношений с местными губернаторами.
В 1868 году М. Е. Салтыков окончательно оставил службу, убедившись, что его усилия не привели к облегчению участи народа. К этому моменту Н. Некрасов – после закрытия «Современника» – стал редактором «Отечественных записок». Почти до конца жизни, до 1884 года, деятельность Щедрина была связана с этим журналом.
Редакционной работой Салтыков-Щедрин занимался неутомимо. Он чувствовал себя на службе у литературы, которую горячо любил. Письмо к сыну, написанное незадолго до смерти, заканчивалось словами: «Паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому».
Двадцать лет все крупные явления русской общественной жизни встречали отголосок в сатире Салтыкова-Щедрина, иногда предугадывавшей их еще в зародыше. Она стала своего рода историческим документом, доходящим местами до полного сочетания реальной и художественной правды.
Еще в Твери Щедрин начал писать сатирические очерки, где впервые возникло имя города Глупова.
В период с 1868 по 1881 год Щедриным были написаны, пожалуй, самые крупные и значительные произведения: «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Культурные люди», «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Головлевы», «Круглый год», «Убежище Монрепо», «За рубежом» и другие.
В предисловии к «Истории одного города» Щедрин говорил о связи событий, происходящих в городе Глупове, с событиями, происходящими в высших правительственных кругах царской России. В своем произведении Щедрин вывел целую галерею страшных по своей жестокости и тупости градоначальников города Глупова.
Гневные молнии сатиры были направлены на то, что властям предержащим хотелось бы утаить от непрошеного глаза, и писателя не раз обвиняли в преувеличениях и клевете на окружающее. Но его «фантазия» исходила из реальнейших явлений, а подчас находила в них почти буквальное соответствие своим «выдумкам».
Великий мастер эзоповского языка доносил до читателя всю глубину содержания своих произведений. До Щедрина прием реалистической фантастики никто не применял: в «Истории одного города» сатирическая фантастика не только обнажает нелепость настоящего, но и зовет к приближению разумного будущего.
К жанру сказки на протяжении своего творчества Щедрин прибегал неоднократно. Сказки писатель создавал уже с 1869 года: «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и другие, но все-таки большинство было написано в середине 80-х годов. Именно в эти годы жанр сказок был необходим Щедрину, чтобы проблемы и образы, волнующие писателя, донести до читателя. И ему приходилось искать форму, наиболее удобную, чтобы обойти цензуру, и вместе с тем наиболее близкую простому народу.
Создавая свои сказки, Щедрин опирался на опыт не только устного народного творчества, но и на сатирические басни великого Крылова. Но вместе с тем новый, оригинальный жанр политической сказки, в которой сочеталась фантастика и реальная злободневная действительность, был востребован самой жизнью.
Своеобразный сказочный элемент, мало похожий на то, что обыкновенно понималось под этим, встречался в его произведениях – в изображение реальной жизни у него часто врывалось то, что он сам называл волшебством.
Написанные главным образом в конце жизни, они как бы подводили итог его сорокалетней творческой деятельности. «Литература, например, может быть названа солью русской жизни: что будет, – думал Салтыков-Щедрин, – если соль перестанет быть соленою, если к ограничениям, не зависящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?..»
Пожалуй, ни об одном из крупных русских писателей не было высказано столько разноречивых суждений, как о М. Е. Салтыкове-Щедрине. Вокруг его имени и его творчества кипела острая борьба мнений, которая продолжалась и на склоне его жизненного пути, хотя у писателя были и искренние почитатели.
Путь русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина был далеко не прост, но на протяжении своего творчества, подобно В. Белинскому, А. Герцену, Н. Чернышевскому, Н. Добролюбову, Н. Некрасову, он проявлял необыкновенную смелость, настойчивость и неподражаемое умение пройти через любые заслоны цензуры и довести до читателей освободительные идеи. Великий сатирик в конце своей жизни имел полное право сказать, что он «погибает на службе обществу».
28 апреля (10 мая) 1889 года перестало биться сердце писателя-демократа М. Е. Салтыкова-Щедрина.
И сразу же стали приходить телеграммы и письма из разных концов необъятной России, от людей разных профессий и званий. В одном письме, в частности, было написано: «Смерть Михаила Евграфовича опечалила всех, искренне желающих добра и счастья своей родине. В лице его Россия лишилась лучшего, справедливого и энергичного защитника правды и свободы, борца против зла, которое он своим сильным умом и словом разил в самом корне…»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин согласно его желанию 2 (14) мая был погребен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище, рядом с И. С. Тургеневым.
В 1936 году могила была перенесена на Литераторские мостки.
История одного города

От издателя
Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае, обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых – и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости.
Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности г.г. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».
Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом – как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.
Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.
Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца1
Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие2, и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедывать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.
Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, – и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу – и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо – и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону – и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо, и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горе устремляющаяся, или же стремящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять смрадный твой кал? О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!
Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего), купно с троими моими предшественниками, неумытными устами воспеть хвалу славных оных Неронов3, кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю Божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней.
Сие намерение – есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?
Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит собственно задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? – Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? – Нет, и не в этом. В чем же? – А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия, и об оном предать потомству в надлежащее назидание.
В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!
Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники.
И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А за тем Богу слава и разглагольствию моему конец.
Калигула! твой конь в сенатеНе мог сиять, сияя в злате:Сияют добрые дела! – Прим. изд.