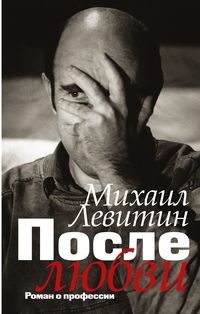Kitobni o'qish: «После любви. Роман о профессии»
© Левитин М.З., 2019.
© ООО «Издательство АСТ», 2019.
После любви
Роман о профессии
Несостоявшееся свидание
Надо ехать в Одессу и начинать всё сначала.
Что-то шепчет во мне эту книгу сквозь дрёму.
И дремлю я, как пожилой человек… нет, просто дремлю. Чтобы книга сама прибилась ко мне.
Только не насиловать воспоминаний… не утверждать, что было так, как ты помнишь.
Ты ничего не помнишь.
Ты не мог догадаться тогда, что придется вспоминать девочку, к которой ты не пришел на свидание.
Вы договорились на Тираспольской, недалеко от белого, недавно выбеленного собора, очень малороссийского, по настойчивости впечатления почти пугающего.
Сияет собор в глубине неба, непричастный к нашей истории. На его высоких ступенях снуют нищие. Они особенно неприятны самодельными сумками мытарей на плечах.
Они не принадлежат себе. Только истории.
Повторяются, множатся, мелькают…
Белый фон в театре мне всю жизнь приходилось преодолевать – в «Билли Пилигриме», в «Живом трупе». На белом человек уж совсем одинок. Или это только мое?
Так электрическая лампочка, зажженная среди бела дня на улице, меня пугает самоубийством. Почему бы ее не выключить?
Костью в горле этот собор. Я не мог заставить себя его полюбить.
Как при первой же встрече, она попыталась пробежать мимо, но как-то споткнулась об меня.
Это надо запомнить.
Я помешал ритму ее движения. И эта запинка или остановка есть оценка, перелом намерений, всё равно что, падая, пытаться понять, что ты при этом теряешь.
Надо запомнить!
Я потерял всё, она – не знаю… Слишком спешила… Много возможностей.
Она смотрела из-под челки. Русая челка опережала взгляд. Она ее поддувала снизу вверх – та мешала видеть и бежать.
С расстёгнутым воротом полотняной рубашки, чтобы не умереть от жары – раз, и два – чтобы чувствовать себя свободной.
Ох, до чего же я люблю эту нашу встречу, которую мы могли даже не заметить!
Мы столько раз оказывались после на том самом театральном пятачке в Москве. Она – известная актриса, я – режиссер… И ни разу не окликнули друг друга.
Или не встречались случайно, или она избегала меня как болтуна, который тогда не пришел. А я не пришел.
Я испугался. Что она изменит весь ход моей жизни… Как одна из побирушек, с мешком сбежавшая со ступеней собора.
Я испугался, что она слишком нуждается во мне. Разве такое невозможно? Любовь…
Мы договорились встретиться друг с другом в тот же день.
Понимали, что за этой встречей последует, но ничего уже не могли изменить. Если бы эта встреча состоялась, я забыл бы ее сейчас же. Как забыл много таких встреч.
Но она не состоялась… И я помню все подробности этой несостоявшейся встречи.
Мы оба мечтали о невероятной силы объятьях, о поцелуях, которые нам за жизнь так и не пришлось испытать… если только в кино. Я не знал тогда, что она пробегала мимо меня в перерыве съемок первой своей картины на Одесской студии. У женщины-режиссера, влюбившейся в нее так же внезапно, как и я. В этих женщинах была простота, доходящая до бедности. До бедности, переполненной гениальными догадками.
Не хочу называть их по имени. Назовешь – и исчезнет человек, не принадлежащий тебе. Начнешь еще считать себя волшебником. Вот назвал, а тот исчез, предположим, умер. Надо просто верить в силу совпадений. Предположить, что вы подумали друг о друге одновременно, только твое воспоминание оказалось сильней.
Та женщина-режиссер действительно умерла. Девушка, к которой я не пришел на свидание, жива. Я хочу, чтобы она жила долго без всяких воспоминаний обо мне.
Да и какие могут быть воспоминания о неслучившемся?!
Могут! Как на сцене. Там всё не случилось, а как-то происходит. Вот что интересно. Вот что нужно понять… А не рассказывать чужие истории, произошедшие с автором за письменным столом.
Театр – это ты. Из ничего. В поисках самого себя. Непременно живого, не найденного, не обнаруженного, но живого, отмеченного Богом. Участь персонажа – бессмертие. Каждого! Только он об этом не догадывается. Как и актер, которому доверено провести его через пространство.
Пространство интересно, только если в нем замечен человек. Как в пустыне. Пусть даже точка, мираж, присутствие человека. Должны же мы за кем-то следовать.
Она стала свободна тогда от моих баек о ГИТИСе, где я уже занимался на первом курсе. Никакой профессиональной корысти.
Она просто споткнулась об меня.
Театр и курица
В театр я попал за взятку. Папа принес директору театра огромную курицу, и меня взяли рабочим сцены.
– Зачем вашему мальчику всё это нужно? – спросил директор.
– Не знаю, – смутился отец, – мальчику нужно познакомиться с вашим главным режиссером. Кажется, он тоже хочет стать главным режиссером.
«Вот придурок!» – подумал холеный седовласый директор, чья фамилия слегка напоминала нашу.
Чтобы сгладить впечатление от будничного рассказа, как я попал в театр, я написал отдельный маленький рассказ «Театр и курица». И потерял. Что хорошо. Я всегда подправлял неприятное прозой. И терял. Эта проза для себя была мне необходима. Она стирала лишние черты. Если по Пушкину.
При встрече со мной директор, почти мой однофамилец, отводил глаза. Так что я его запомнил, он меня – нет. Не испытываю ни отвращения, ни благодарности.
Как-то непривычно прямо писать о себе, не прячась за спинами персонажей, не притворяясь, не делая самого себя кем-то другим, обязательно величественным и загадочным. Во мне ни загадки, ни разгадки нет. Просто несу в себе собственную тишину, когда кажется, что все самые необыкновенные события в мире ищут только тебя. А кого им еще искать?
Ты правильно родился, никем не притворяешься. Ты сам – ответ на все вопросы. Твой метод – это ты сам, а профессией ты обязан тем, кто без тебя не может. Они со мной, пока мне есть чем жить. Я пообещал им, своим актерам: как только перестану быть вам интересным, уйду. И они до сих пор стараются убедить меня, что я всё еще интересен. Они берегут меня как последний заряд, которым можно выстрелить по врагу.
Я родился двадцать седьмого декабря сорок пятого года. Но что шло в одесских театрах двадцать шестого и из какого именно театра, музыкального или драматического, увезли маму рожать, так никогда и не узнаю. А мама ничего не помнит. Известно только, что схватки начались в театре. Но что было их причиной – радость, веселье или мука от увиденного?! Что она смотрела, неизвестно. А память у нее была безупречная, архивистская, бугурусланская.
Должно быть, мое шевеление в чреве отвлекло ее от спектакля, а может быть, испугалась, что начну шуметь и помешаю зрителям смотреть спектакль дальше. Она всегда была излишне щепетильна, моя мама. «Родила, как пукнула», – любила говорить она, вспоминая, как я, выскакивая, успел хлопнуть ножкой по ляжке и заорать так, что врачи рассмеялись. Это она хорошо помнила, а какой спектакль шел накануне и где – ЗАБЫЛА. Вот я теперь и разбираюсь.
– У меня были другие заботы, – оправдывалась она.
Какие могут быть заботы кроме театра?!
До сих пор кажется, что она дурачила меня.
Она, придающая значение любой мелочи, помнит, как я родился, а что было перед ней на сцене, не помнит… Неужели мое рождение убедительнее спектакля, или спектакль был настолько плох?!
Газеты от 26 декабря, хранящиеся вместе с остальными годами в библиотеке Одесского университета, оказались залиты водой при ремонте. И когда я гораздо позже расспрашивал нескольких уцелевших стариков, они смотрели на меня с тревогой – что там могло особенного идти в первые послевоенные месяцы, что мне от них нужно? Объяснить я не мог.
Встревоженный находкой – книгой о Камерном театре в «Букинисте» на Греческой площади, – я ни о чем, кроме театра, думать не хотел. Во всем я искал теперь следы этого театра, театра двадцатых годов вообще. Они воскресли для меня, они для меня не умирали. Сданная в букинистический одержимым поклонником Камерного книга была переложена аккуратно вырезанными рецензиями довоенных лет и полна диковинными фотографиями, на которых мне, приученному к русскому бытовому театру, всё казалось каким-то градом Китежем и уж, безусловно, чем-то балетно-оперным, вычурным.
Bepul matn qismi tugad.