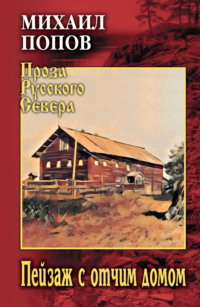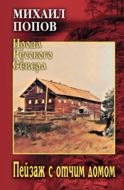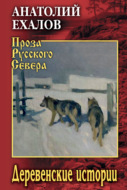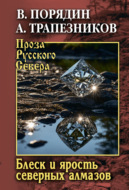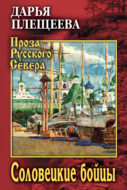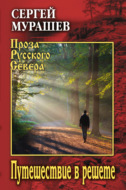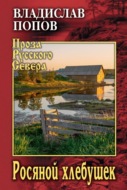Kitobni o'qish: «Пейзаж с отчим домом»
Проза Русского Севера

© Попов М.К., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Перформанс, или Пейзаж с отчим домом
Повесть
Русским женщинам, которые норовят
оставить Родину ради заграницы
1
– Фру Ульсен!
– Госпожа Ула!
Подопечные окликали со всех сторон. Каждому хотелось её внимания. И только старик помалкивал, ожидая – иногда, впрочем, и нетерпеливо, – когда наставница сама подойдёт к нему. При этом если большинство студийцев ждало от неё похвалы или хотя бы одобрения, то старик требовал честного, нелицеприятного разбора и даже жёсткой критики.
Ула ставила студийцам рисунок. Не всем подопечным это давалось и было вообще дано. Но у старика на исходе жизни открылись способности.
«Похоже?» – бывало, спрашивал он о портрете, окидывая ближних к своему мольберту соседей – тут были пакистанец Зуфар, марокканка Камилла, чилиец Пако. «О’кей!» – кивали обыкновенно те либо показывали большой палец: похоже, похоже. А на кого – разумелось само собой: конечно, на их обаятельную наставницу.
На мольберте старика менялись листы, но почти не менялись сюжеты. А если Ула давала свободную тему, его работа непременно сводилась к пейзажу: озеро, луг, лошадь на просторе, стая уток над речкой, сельский дом, скамейка возле пруда… И в каждой, почти в каждой картинке помещалась женская фигурка с закинутой на грудь русой косой, а то и широкое ласковое лицо.
Старик так и говорил, что посещает студию исключительно из-за неё: не было бы Улы – он едва ли ходил в арт-хаус. Да и Ула признавалась, что привязалась к нему. Когда он запаздывал, поглядывала в окно, спрашивала, не видел ли кто старика. А если он совсем не появлялся, непременно звонила домой.
Что надо старости? Немного внимания. Выслушать, посочувствовать, коли неможется, посоветовать чего, чаю, например, горячего с лимоном да мёдом – продуло, видать, – да укрыться потеплее да поспать, а там, глядишь, недомоганье и отступит…
И ведь верно. Проходило дня три-четыре, как старик вновь появлялся в студии. Его встречали улыбками и приветствиями. Смущённый вниманием, он проходил в свой угол и вставал к мольберту. Студийное пространство, воздушное и светлое, с его появлением обретало законченный вид, словно перелётный клин вновь обретал вожака. Так это подразумевалось, так воспринималось со стороны.
А что старик? Старик был не настолько дряхл, чтобы тетешкаться лаврами патриарха. Он мягко переводил всеобщее внимание на Улу: это ей слава и благодарность, это она, кудесница, подняла его. А однажды объявил, что голос Улы обладает целебными свойствами и, сопровождаемый ощутимой даже на расстоянии улыбкой, действует самым благотворным образом.
Ула на это, конечно, улыбнулась – кому же не приятны такие комплименты! Догадку о телепатии не исключила, но перевела всё на другое, тем самым приглашая подопечных к разговору: может, когда-нибудь человеческий голос будет обращён в краски, и вы, Лион, и вы, Терезия, своими речевыми сигналами, голосовыми модуляциями, артикуляцией станете рисовать живописные полотна; не красками акварельными да масляными, не пастелью или фломастерами, как мы с вами, а словом. А потом – и мыслью, подхватил кто-то из студийцев, кажется, ливанец Зулейя. Да, и мыслью, поддержала Ула и перевела глаза на старика: а как он на это смотрит, как ему эта идея?
В глазах старика не возникло особого оживления. Но не потому, что ему так уж не нравилась сама мысль о превращениях мысли. Нет. Просто она уводила куда-то в будущее, к которому он, старик, в земных пределах уже не имел особого отношения. А главное, она лишала его сокровенного общения.
Старик был убеждён, что из всех студийцев более других имеет право на внимание Улы, особенно после болезни. Это вроде лимита времени, некие отступные за пропущенные дни. И потому если и не отстаивал напрямую это право, то косвенно давал понять… Переминаясь у своего мольберта, он поводил плечами, словно ему был тесен светлый вельветовый пиджак или колол шерстяной джемпер, иногда покряхтывал, словно напоминая о недавней простуде, а то и косился назад, открывая крыло седой брови – знак, означающий предел терпения.
По правилам арт-хауса, установленным магистратом, фру Ульсен должна была распределять урочное время поровну между всеми подопечными независимо от возраста, пола и национальности: «Толерантность – превыше всего!» Таким образом, на каждого студийца полагалось примерно десять персональных минут. Это если не считать вводных объяснений. Однако так уж выходило, что старику уделялось всё же больше внимания. Чтобы как-то сгладить это неравенство, Ула намеренно выдерживала паузу, медленнее, чем обычно, поворачивалась и медленнее, чем всегда, направлялась к его мольберту. Казалось, она точно знала, сколько можно испытывать стариковское терпение.
И ещё. Со всеми учениками Ула говорила по-норвежски либо по-английски, а со стариком – только по-русски, потому что они были соотечественниками. Улюшка или Уля, а то и Ульяна Трофимовна, в особых случаях «дочка» – обращался к ней старик в зависимости от настроения или важности текущего момента. Она коротко окидывала его работу, легко касалась карандашом листа, делая грифельные поправки, а то перехватывала цилиндрик пастели… И говорила. Вернее, слушала и говорила. И он слушал и говорил. Не важно, о чём: о его пейзаже, о красках и кистях, о дожде за окном, о берёзовом листе, который прилепился к стеклу, как мазок кисти сударыни Осени… Главное, по-своему, на родном языке. Ведь именно этого им больше всего и недоставало посреди райской чужбины.
Пётр Григорьевич целыми днями дома один. Дочка возвращается с работы вечером, у неё начинаются хозяйственные хлопоты: покормить детей, обиходить мужа, ей не до отца. Внуки – их двое – по-русски говорят плохо. Не говоря уж о зяте, коренном норвеге, который к тому же долго работал в Америке.
Схожая ситуация и в семье Ульяны. Муж Йон по-русски знает только три слова: «спутник», «водка» да ещё «балабайка». А дети, её, русские, рождённые в России сын и дочка, всё меньше говорят по-русски, не видя в том большой нужды, особенно дочка…
Ульяне достаточно было родной речи. Был бы собеседник, а предмет разговора не имел особого значения. Главное, чтобы слова не падали в пустоту. В начале своего здешнего бытования, оставаясь днями одна, она пробовала говорить сама с собой. Однако вовремя спохватилась, поймав себя на мысли, что делает что-то запретное и даже небезопасное. И, повинуясь природному инстинкту, такие попытки оставила.
А Петру Григорьевичу в диалоге важен был смысл. Он не то чтобы всё переводил в практическое русло – они с Ульяной беседовали и о природе, и о музыке, и, само собой, о живописи – как без этого в художественной студии! – но между тем старик постоянно давал житейские советы и наставлял её. Особенно его беспокоили Ульянины дети. Собственные внуки, родившиеся в Норвегии, ничем не отличались от здешних сверстников. А будущность детей Ульяны, чисто русских, оказавшихся на чужбине в начале жизни – Лариска в отрочестве, а Серёжка в подростковом возрасте, – его тревожила. Родные корни обрублены, здешние – слабые, примутся ли они в чужой почве. Человек от земли, крестьянский сын, Пётр Григорьевич и рассуждал по-земному.
К разговору русских, точнее говору-диалогу, в студии прислушивались, причём не только ближние по месту. Студия заметно стихала, разговоры если не смолкали, то сводились к шёпоту. И даже оплывшая и весьма неуклюжая мулатка Нэда, которая постоянно роняла кисти и карандаши по причине артроза, и та подбиралась.
При всей прозрачности скандинавских границ русские в норвежской глубинке, маленьком городке – на карте точечка в восклицательном знаке приполярного фьорда – были всё же наперечёт. Застать местных русских за своим разговором было просто негде: в магазинах и муниципальных службах они объяснялись, пусть порой и худо, по-норвежски. Русские рыбаки, сдававшие улов на местной фактории, были малоразговорчивы – им было не до общения. Приезжие из России, главным образом молодые люди на крутых тачках, мало чем отличались от горластых сверстников из Польши, от хамовато-чванливых англичан. Другое дело эти двое – широколицая, курносая художница с русой косой и седой старик, немного похожий на Санта Клауса. Их речь, её паузы и взлёты, их мимика и жесты вызывали в студийцах, людях в большинстве своём тоже нездешних, любопытство, а у кого-то, не исключено, и ностальгические чувства. Ведь иные из них невольно вспоминали русскую классику – Толстого, Достоевского, Чехова, которых читали в колледже или гимназии. И, конечно, не столько русская реальность всплывала в их воображении – где её, эту Рашу, понять?! – сколько свои полузабытые детские переживания, картины отроческих лет, которые при всех слезах и тревогах сопровождали бегство с родины, всё равно ласкают сердце и душу.
Больше того, у некоторых студийцев тут было не просто любопытство. Иные из них помимо художественной студии посещали ещё и драму, которая располагалась здесь же, в арт-хаусе. На социальные да эмигрантские пособия было, конечно, не разгуляться, но заниматься в бесплатных творческих коллективах право давалось всем. Вот многие и пользовались этим. Театральная труппа ставила Чехова. Как они там играли, Ульяна не видела. Но одна студийка, звали её Эле – полное имя Элефтерия, – подошла как-то во время кофейной паузы и, сверкая чёрными глазами, выразила слова благодарности. Эта гречанка, наследница классического античного театра, играет роль Раневской. Недавно она внимательно прислушивалась к диалогу фру Ульсен и Санты («Наполовину они, стало быть, возвели старика в Деды Морозы») и на очередной репетиции попыталась услышанное воспроизвести, разумеется, не смысл – где там! – а тембр, ритм и тональность речи фру Улы. В итоге Ларсу, режиссёру драмы, так понравилось, что он её, Эле, похвалил и посоветовал и дальше брать эти нечаянные уроки, заключив, что именно в речи, в её напеве, и таится загадка русской драмы.
Какой же эпизод, интересно, запомнился гречанке? Ульяна поделилась услышанным со стариком. Путём сопоставлений и переборов они пришли к выводу, что тогда она рассказывала о старшей сестре. Наложившая запрет на воспоминания да и всё своё прошлое, Ульяна едва ли не впервые за годы эмиграции приоткрыла краешек детства и чуть-чуть поведала старику о родной душе.
Раиса, большуха, была ей заместо матери. Мать на ферме, садика в деревне нет – кому водиться с младеней? Возились все. Но больше всех песталась с нею Раечка. Ей было уже лет четырнадцать, когда родилась младшая. И как ни вспомнишь – все ранние годочки только с ней. Раечка и кашку сварит, и волосёнки приберёт, и чулочки заштопает, и спать повалит – придёт пора. Всё она.
Летом, когда мелела река, детвора, бывало, норовила попасть на кулиги – пески, которые открывались посерёдке широкого русла. Путь к заветному месту лежал через омут. Раечка усаживала младшую на закорки и подходила к урезу. Омут обрывистый. Шаг-другой – вода уже по пояс, ещё один – уже по грудь. Ещё – пяточки Ульянки уже достают поверхности. Ульянке щекотно, она повизгивает. Ей не видно лица сестры. А Раечка в смятении, ей страшно – вода уже по горло. Шагать вперёд? А вдруг ещё глубже? Поворачивать назад? А ну как яма!
Так она рассказывала Ульяне уже потом, годы спустя, делясь давним страхом. А Уля и не ведала того. Ей было весело, когда они перебирались на кулиги, она не сознавала опасности, сидя на крепких, как тогда казалось, плечах старшей сестрицы.
Возвращаясь мыслями к театру, Ульяна не раз улыбалась: надо же как аукнулось?! Она даже причёску стала менять: то закалывала кольцом на затылке, то воздымала короной. А однажды, остановившись возле старика, сказала вслух:
– Представляете – Раневская! Никогда бы не подумала, – и без перехода к нему: – В таком случае вы, Пётр Григорьевич, не иначе – Гаев.
На сей раз её волосы были распущены по плечам и завязаны на спине. Так она подчас «зашторивала» свою «славянскую луноликость», доставшуюся от рязанского папушки.
– Гаев? – старик оторвался от мольберта и коротко на неё взглянул – он не одобрял внешних перемен. – Кто это?
Безучастность в голосе была нарочитой. Ульяна смолчала. Увлечённо работавший аквамарином, старик творил небо, которое ласково опускал на родной пейзаж: приземистые избушки, журавль над колодцем, стога сена за околицей…
2
Старик очутился в эмиграции на исходе жизни. Он знал, что в Норвегии у него есть родственники. Это были дети его родного дяди – старшего брата отца, по профессии моряка, который после революции остался в Христиании. В прежние поры связи с ними не было. Но с переменами в России они, его двоюродники, дали о себе знать. Письма, презенты, потом обоюдные визиты, естественно, сравнение уровней жизни, и незаметно в новом семейном кругу возникла мысль о переезде. Пётр Григорьевич поначалу и думать о том не желал – с какой стати! Но тут случилась беда: заболела жена, обнаружился рак. Решено было везти её на лечение в Норвегию. Стали оформлять визы, а она умерла – сгорела за два месяца. Остались Пётр Григорьевич с дочкой одни. Как жить дальше? Роза вызрела для замужества, все сроки уж, кажется, вышли, а там, у них, намекали родичи, есть перспективы. У старика перспектив не было. Зато у обоих уже имелись выездные документы. И однажды – чего не сделаешь ради любимого, к тому же единственного чада! – он согласился.
«Где были мои глаза? О чём думала эта старая голова?» – теперь постоянно корил он сам себя, вызывая у иных, чаще тоже приезжих, сочувствие, а у других – недоумение.
Однажды художественная студия отправилась на пленэр. Старик сидел на переднем сиденье автобуса рядом с Ульяной. Автобус проезжал мимо кладбища. Пётр Григорьевич насупился, стиснув этюдник:
– Матушка померла в России, батька сгиб в Германии, а меня, видать, затолкают здесь, в эту землю.
Его «крамольные» речи доходили до ближних соседей, а от тех – до родственников, которые сманили старика. Кто-то из них сочувствовал его переживаниям, но большинство родичей, здесь родившихся, и ближние соседи, коренные норвеги, пожимали плечами.
Всё это не могло не беспокоить дочь. Ладно, если кто-то принимает ностальгию старика за старческую причуду, за блажь чудака, сиречь городского сумасшедшего и даже маразматика, хотя и это неприятно. Но ведь большинство-то всё слышит буквально и оценивает адекватно: старику не нравится ухоженный Запад, ему милее бандитская Россия. Это не может не сказаться на репутации их порядочного семейства, а что ещё неприятнее – на престиже семейной фирмы.
«Что! – вскипел старик в ответ на попрёк дочери, что он отваживает потенциальных покупателей от супермаркета её мужа. Муж Розы Юхан долгое время жил в Америке, скопил денег и открыл на родине продажу унитазов. – Из-за меня они откажутся от его говённых горшков?! Под куст начнут бегать? Не смеши меня!»
Так, обходя некоторое неблагозвучие, Роза делилась с Ульяной своими переживаниями. Она специально зазвала в гости соотечественницу, чтобы поговорить с нею об отце. Он очень уважительно отзывается о вас, добавила Роза. А перед этим помянула, что отца вместе с мужем и детьми отправила в их семейную вотчину – рыбацкий дом на берегу дальнего озера.
Роза была немного моложе Ульяны. Лицом не очень привлекательная, явно не в отца, она подкупала энергичностью, расторопностью, какой-то отточенной чёткостью движений и жестов. Оказалось, что в юности она много занималась спортом: плавала, играла в регби, гоняла на коньках. Оттого у неё такие широкие плечи и крепкая мускулатура. Зато теперь она успешно трудится в семейной фирме – в фирме, а не в магазине, подчеркнула она, – выполняя обязанности менеджера по продажам, а заодно, если требуется, и грузчика, благо умеет управляться с автокраном.
Сначала Роза угостила гостью кофе. Попутно показала коллекцию антикварной голландской посуды – это увлечение мужа. Потом поводила по дому, называя иногда стоимость убранства и дорогой отделки, на опытный взгляд художницы – несколько аляповатых. И, наконец, пригласив на второй этаж, провела в отцовскую комнату.
Ульяна при виде обиталища старика почти не удивилась, чего, судя по всему, ожидала дочь. Ведь она пригласила её, чтобы разделить с нею свою озабоченность. Все стены просторной комнаты были увешаны теми самыми пейзажами – акварелями и пастелями, которые он рисовал в студии. Только здесь они чередовались с увеличенными фотографиями, видимо, родных мест, и репродукциями с картин русских классиков, главным образом передвижников. Здесь были Шишкин, Поленов, Васнецов, Суриков…
Чуть дольше Ульяна задержалась возле пейзажа Куинджи: чёрная туча – задний план и солнечный луг – передний. Кажется, «После дождя». Где вы, Пётр Григорьевич? Здесь, на солнечной стороне? Или там, во мраке?
А ещё, глядя на оформление комнаты, Ульяна подумала о себе: а могла бы она позволить такое – развесить в своей комнате русские пейзажи? В принципе-то, конечно, могла: едва ли Йон стал бы возражать против классической живописи, повешенной в своём, а теперь и в их с Серёжкой и Лариской доме. Но для себя заключила, что нет. И после, уже дома, облекла эту мысль в какую-то не то китайскую, не то японскую формулу: бабочка, которая сядет на цветок, не нарушит пейзажа и натюрморта, если они пишутся маслом; но акварель человеческих отношений настолько зыбка, что может поплыть от любого, даже незначительного, прикосновения.
Ульяна так сосредоточенно всматривалась в обитель старика, словно искала ответ на какой-то вопрос, то ли уже поставленный жизнью, то ли ещё предстоящий. Роза же сведённые брови гостьи истолковала по-своему:
– Вы меня понимаете… – и без перехода: – Ну вот что ему, кажется, надо! В тепле, в холе, сыт, одет-обут. Заботушек никаких. Живи да радуйся, а он всё назад оглядывается.
В контексте этой оглядки, судя по тону, оказалась и литературная классика. Хотя вторая половина следующей фразы произносилась вроде даже с гордостью, дескать, и мы не лыком шиты.
– Понадобился ему как-то Чехов. Подай – и всё! А где здесь на русском-то?.. Пришлось заказывать через Интернет – в сети московской книги. А ведь это расходы!
Концовка фразы вильнула опять не туда. Роза тут же спохватилась, дескать, это, конечно, не главное: лишь бы отцу потрафить. В этом её, дочери, долг. Да и элементарная справедливость того требует. Ведь отец тоже вносит вклад в семейный бюджет.
– Пенсия здешняя – будьте нате! Ровесники его в России и трети того не имеют.
Это был главный аргумент Розы в пользу здешнего житья, и она его подобающим образом обставила, ещё раз посетовав на «капризы» отца. Попутно отметила, что российскую пенсию Пётр Григорьевич перечисляет в детский дом, куда попал после кончины матери, это было сразу после войны. А заодно пожаловалась, что за финансовыми своими делами отец не следит, приходится постоянно напоминать:
– Там дают пособие, здесь – компенсацию, сходи – не проворонь. Нет, пока не ткнёшь, не заставишь – не скрянется.
Слово из русского далека вывернулось случайно, видать, унаследованное от отца или матери. Скрянется – не скрянется. Может, потому и отложилось в Ульяниной памяти.
3
Просьба Розы поговорить с отцом совпала с мыслями самой Ульяны. Она давно собиралась это сделать. Да всё как-то не находила повода. Вернее, даже не повода – подводки к разговору. Чтобы это было не в лоб, а исподволь, может быть, облечено в какую-то художественную форму. А поводов было куда как достаточно.
Вспомнить хотя бы самое начало – первое время пребывания в новой стране. Она только-только устроилась на службу, став преподавателем рисования, и несказанно радовалась. Радовалась и месту, и месту пребывания, и своему новому дому, и всему тому, что с нею и с детьми произошло, она и детям внушала эту радость, хотя они и без внушения это воспринимали. А Пётр Григорьевич – новый знакомец и соотечественник – вместо того, чтобы эту радость с нею разделить, вдруг огорошил. Да ещё как!
Из студии им со стариком было по пути. В тот раз к ним присоединился Серёжка – он после гимназии занимался баскетболом. По дороге Ульяна забежала в банк, оставив сына на попечение старика. Конечно, опеки Серёжке уже не требовалось, чай не маленький, да и обвыкся уже на новом месте. Но таково уж материнское сердце: всегда хочется, чтобы за дитём, даже и великовозрастным, был догляд. Вот и на этот раз так получилось. А вернулась и пожалела, что отлучилась.
Ещё издали она увидела, как Пётр Григорьевич жестикулирует. Так он поводил руками, когда рассуждал о чём-то важном. А самым важным, в чём Ульяна уже убедилась, для него была оставленная Родина. Вот, видать, и Серёжке он о том твердил, Ульяна не ошиблась – концовка разговора, которую она уловила, не оставляла никаких сомнений.
«Был бы помоложе, – говорил Пётр Григорьевич, – рванул бы к лешему обратно. Хоть пешем, хоть на карачках – домо-о-ой…»
Ульяна сделала вид, что ничего не слышала, но детей наедине со стариком больше не оставляла: а ну как и они заболеют этой явно неизлечимой болезнью под названием ностальгия.
Впрочем, это больше касалось Сергея. Ему не досталось ни отца, ни деда, вот он и тянулся к Петру Григорьевичу. А Лариска и сама избегала старика после того, как он обругал её.
Тринадцать-четырнадцать лет – подростковый возраст, у них в эту пору всё наперекосяк: не слушаются, грубят, подчас хамят и при этом вечно чего-то требуют. И тут, как убеждает доктор Спок, необходимо терпение и ещё сто раз терпение. Главное, не сорваться, не попасть на встречную волну, перевести разговор на другое, отшутиться, поставить в тупик – мало ли способов нейтрализовать «пубертатную атаку». Ульяна хорошо усвоила уроки доктора Спока. И ещё одно, что помогает утихомирить бурю в стакане воды, – это она уже вывела сама – всё должно происходить без свидетелей. Тут у них с дочкой был негласный уговор. О таких перепалках-перехлёстках не знал даже Серёжка, не говоря уже об Йоне. Боже упаси! Это случалось где-нибудь на улице, в тихом уголке арт-хауса или дома, когда оставались с нею наедине. Но в тот раз Лариска нарушила заведённое правило…
То, что старик, ставший невольным свидетелем «пубертатного взрыва», осадил подростковое хамство, было в принципе справедливо. Заслужила. Но то, какими словами, каким тоном он это сделал, было для Ульяны неприемлемо, а как матери казалось просто чрезмерным. Это ведь не детдом, где он испытал на себе уроки доморощенной педагогики. Здесь Европа, здесь исповедуют толерантность и независимость.
Досада на Петра Григорьевича долго не отпускала Ульяну. Первое время после того она сторонилась старика, избегая даже в студии посторонних разговоров, а он, чувствуя её охлаждение, тогда серьёзно заболел. Вот ведь как обернулась та его резкость и несдержанность.
С тех пор минуло два года. Острота конфликта сгладилась. Однако, вспоминая подчас ту сцену, Ульяна и сейчас передёргивала плечами. Не дай Бог испытать то, что осталось, кажется, в далёком прошлом.
Эти мысли невольно приходили на ум, когда Ульяна готовилась к предстоящему разговору. Однако предъявлять тот эпизод, тем паче заводить с него задуманное было, конечно, неразумно. Больше того, Ульяна почувствовала, что личные, какие-то частные доводы при таком разговоре будут неуместны. Пётр Григорьевич сразу поймёт, откуда ветер дует. «Рука Брюсселя» или даже «Рука Уолл-стрита» – так он называет то, что внушает ему его практичная и педантичная дочка, настраиваемая американизированным мужем.
Повод возник сам собой. У старика не выходил небесный цвет. Он явно терял зрение, но, не желая признавать этого, искал внешние причины. Сейчас он сетовал на освещение. Ульяна недоумённо поджала губы: здесь, при этих-то широченных окнах?! Старик показал глазами на потолочные плафоны: дело в них, мешают они. И вдруг без перехода стал склонять на все лады современную архитектуру. Дескать, в ней нет души – лишь самодовольство авторов; пыжатся, изощряются, выпендриваются один перед другим, а о человеке, который окажется в таком здании, совершенно не думают. Тут досталось и арт-хаусу, и его архитектору – этому штукарю, как выразился Пётр Григорьевич.
Старик явно брюзжал, видимо, терзаемый недомоганием. В другой раз Ульяна смолчала бы. Зачем усугублять ситуацию?! Может, даже как-то успокоила, отвлекла. Но тут не сдержалась, не смогла. Ведь он посягал на то, что ей было дорого.
Архитектор, который понастроил по всему свету такие дворцы – гнёзда искусств, был, безусловно, гений. Изящная, приподнятая над землёй форма, огромные, во все стены, окна, дарящие массу света, – сказка! Плафоны же эти золотистые – просто чудо! Кажется, они аккумулируют солнечный свет, а в пасмурный день возвращают его. Да что в пасмурный – в полярную ночь они так искусно пятнают изумрудный пол, что кажется, идёшь по солнечным полянам, даром что зима.
А старик упорствовал, не соглашался. По инерции перечит, догадывалась Ульяна: нашло на него, а отступать не привык, вот и спорит. Разговор затягивался. На очередном повороте возник образ болотины. Старик сравнил плафоны с икряной ряской – плодильней для лягушек. Ульяна вскинула брови: немного похоже. Но отозвалась шуткой:
– Знавала я одну лягушку, которая подобрала стрелу и из болота в царский терем перекочевала…
– А я другую знавал, – с вызовом парировал старик. – Не то на стреле, не то на хворостине полетела она за тридевять земель киселя хлебать, а потом… о землю шмякнулась.
4
На следующем занятии, уже ближе к концу, Ульяна предложила Петру Григорьевичу индивидуальное задание.
– Посмотрим, как вы воспринимаете полутона, – пояснила она, учитывая сетование старика на недостатки освещения. А для проверки извлекла большой альбом русских передвижников, который приобрела в Осло, куда они всей студией ездили в музей Эдварда Мунка.
Коснувшись закладки – здесь был тот самый пейзаж Куинджи, – Ульяна открыла альбом и отошла. Пусть старик сосредоточится, вживётся в репродукцию, печать тут отличная, не чета той, что у него дома, а она тем временем проводит подопечных.
Разговор Ульяна собиралась завести издалека. Полутона – повод, главное – в другом. Но тут важно не сбиться, не потерять нить. Опорой для неё станет эта картина. Всё будет кружиться вокруг пейзажа. А о главном она скажет так: её, Ульяны, нынешняя жизнь, жизнь её детей, жизнь Розы и других здешних русских – это передний план, луг, осиянный солнцем, а прошлое – это задний план, та мучительно-тяжёлая грозовая туча; ну зачем им туда?
Ульяна тщательно выверяла все позиции – и тональность, и последовательность доводов, и акценты, и даже возможные паузы. В разговоре всё важно. Однако, как ни готовилась, как ни настраивала себя, ничего-то у неё не вышло, старик сбил все планы, причём как! – используя её же главный козырь – картину. Смотрите, не будь этого густого мрака, убеждал он, этого грозового фронта – солнечная идиллия на переднем плане так бы радостно не сияла.
Старик говорил поначалу медленно, буднично, как судачат о повседневных вещах, даже с натугой, – видать, нездоровилось. Но постепенно, всё более оживляясь, начал жестикулировать, смахивать со лба седые пряди, оправлять усы, ворошить бороду – так, как делал это, когда твердил о самом главном. А ведь это, в сущности, и было сейчас для него самым главным, потому что картина являла образ Родины.
– Согласитесь, – убеждал он, не сомневаясь, кажется, что она никуда не денется и согласится, – «После дождя» – это не только сейчас… Это и о прошлом… Без этого прошлого ничего нет и не будет. Оно живёт в каждой травинке. Потому что травинку питают корни, а корни – в почве…
Тут старик коснулся переднего плана, провёл указательным пальцем по заболоченному ручейку и неожиданно заключил: ломкий ручеёк – это образ погасшей молнии; она не исчезла совсем; растаяв в небесном мраке, она будто пала на этот луг; пала, преломилась и осталась в ручейных бликах.
Ульяна молчала. Ей отчего-то было стыдно. Вспомнилась Раневская, образ которой она примеряла на себя… Глаза её отуманились, живо наполнились, и, чтобы они не пролились, она закусила губу и обхватила себя руками, пытаясь сосредоточиться на солнечной луговине. Увы! Всё, что ещё недавно так радовало её: и это сияние трав, и этот ласковый ручеёк, и эта пасущаяся лошадь, и хуторок на холме, так похожий на здешние фермы, – всё это слилось в одно жёлтое невыразительное пятно. А ещё вспомнилась Лариска, которая всё больше отбивалась от рук, а она, мать, ничего не могла с нею поделать.
* * *
Сеанс психотерапии, как потом иронизировала над собой Ульяна, гоня досаду, не задался: Пётр Григорьевич не услышал её. О том, что может быть наоборот, она тогда ещё не думала, вернее, старалась не думать, ведь и Пётр Григорьевич не убедил её.
Спустя неделю Ульяна проходила мимо социального департамента, и тут припомнилось словечко, обронённое Розой. Не скрянулось с одним, так, может, скрянется с другим, шутя переиначила она услышанное и решила похлопотать о пособиях. Ведь её ученики работали в самых разных сферах, в том числе и в социальной.
Тут результат оказался действительно убедительнее, причём сказался вскоре. Роза, с которой они столкнулись в супермаркете, едва не кинулась Ульяне на шею. Проведённая с отцом беседа – а дочка не сомневалась, что таковая была, – пошла явно на пользу.
– Папа, – Роза подняла палец, – сходил в соцбихандлинг…
Название учреждения Роза произносила на свой лад. Ульяна улыбнулась, ей вспомнился один знаменитый писатель-эмигрант, который по этому поводу сказал в телепередаче так: «Русские, где бы они ни находились, казённые палаты называют, как им заблагорассудится. Даже если прилично изъясняются на языке страны пребывания. Таково свойство менталитета – дистанцирование от властей. Это у нас в крови». При этом печаль в его тоне мешалась с затаённой, не утраченной на чужбине гордостью.
– Так вот в соцбихандлинге, – продолжала Роза, – отцу выделили пособие на одежду и обувь аж в полторы тысячи крон. Представляете?! – Радость она тут же слегка пригасила: – Деньги для нас, конечно, не большие. Но всё-таки… Опять же кстати. Повезу папу в столицу – ежегодное обследование, а это, сами понимаете, расходы…
Роза поминала ещё про одну льготу, которую посулили старику. Говорила что-то ещё. А Ульяна только улыбалась. Много ли человеку надо, пусть не для счастья, так хотя бы для радости?! Ведь это тоже немало.
5
А своё счастье Ульяна не девальвировала, не понижала до уровня радости. Её счастье было полновесным и полнокровным, каким и должно быть счастье любящей и любимой женщины, у которой есть муж, дети и тёплый дом.