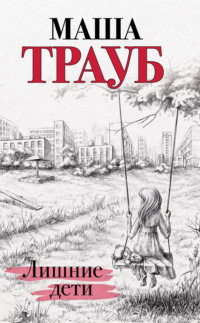Kitobni o'qish: «Лишние дети»
© Трауб М., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Взрослые часто говорят: «Тот год стал для меня решающим», – или что-то вроде того. На самом деле вранье. Все решается в детстве. Для меня все определилось в год, когда я перешла в старшую группу детского сада. Если бы я ходила в другой садик или не ходила вовсе, или у меня были другие воспитатели, то и я бы стала другой. Точнее, так: не стала бы такой. А еще взрослые говорят, что ничего не помнят. Когда я спрашивала маму про ее детский сад, она всегда отвечала, что не помнит. Ну, вообще ничего. Снова вранье. Каждый взрослый помнит. Только не рассказывает об этом детям. Имена и фамилии детей и воспитательниц, их внешность, походку, особые приметы, привычки, одежду – прекрасно все помнят. Шапка воспитательницы, похожая на шкуру мокрой псины, собственное любимое платье с аппликацией на кармашке, платье Насти или Кати, которой смертельно завидовала и мечтала о таком же – даже рисунок этого вожделенного наряда память услужливо подсказывает. Запах варежек, которые уложены на просушку и обязательно завалятся за батарею – и надо лезть доставать. А там всегда пыль, и страшно засовывать туда руку – вдруг кто-то дернет снизу или укусит? Да, варежки тоже пахнут мокрой псиной. Вкус каши, мясной запеканки, запах щей и котлет. Мучительные загадки, на которые нет и не может быть ответа. Почему вареные яйца, когда их почистишь, всегда отдают синевой? А желток снаружи зеленый, а внутри желтый? Почему в садике омлет всегда пышный, как пирог, а дома быстро сдувается и становится плоским? Почему колготки и гольфы всегда спадали, сколько ни подтягивай? Почему если мальчик в шортах поверх девчачьих колготок – это нормально, а если в штанах, да еще и не в трениках и не в рейтузах, то «воображала – хвост поджала»? Все это застывает в памяти на всю жизнь. Можно забыть, как выглядела первая школьная любовь, но девочку в садике, в которую влюбился, или мальчика, обещавшего жениться, когда вырастет, – нет, такое не забывается. Как ни старайся.
Когда я росла, все дети ходили в детский сад, а если не ходили, значит, считались больными или ненормальными. Так что все родители отдавали детей в сад, и чем раньше, тем лучше. Я пошла в два с половиной года, что считалось уже поздно. Те, кто пережил ясельную группу, отличались от остальных детей даже по взгляду. Наш сад считался самым обычным, но хорошим. В том смысле, что в него отдавали и детей из «приличных» семей. А те, кто из неприличных семей (как я, например), – шли «по прописке». Моя мама всегда это подчеркивала – «мы по прописке». Это означало, что меня не могут выгнать и «мы имеем право». Хотя я бы предпочла считаться «приличной».
У нашего садика не было названия, просто «тот, который рядом с поликлиникой, между помойками». Соседний сад назывался «на бывшей свалке» и предназначался исключительно для детей «по прописке».
Зато в нашем садике каждая группа имела название. Старшая называлась «Березка». Потому что на стене на лестнице была нарисована береза. Краска на стене облупилась, и береза давно стояла голая. Там, где художник нарисовал листья, зияли серые пятна. А половину ствола, ту, что от пола, замазали. Начали перекрашивать и забыли, или краска закончилась. Но это ладно. В младшей группе мы назывались «Боровичками», потому что на стене был нарисован гриб с лицом. Все дети, впервые попадавшие в группу, начинали горько плакать и просились домой. Гриб, опять же по причине облупившейся краски, скалился и сверкал одним-единственным зубом, да и то черным, как фикса. Что такое фикса, я не знала, да и никто из детей не знал, но взрослые прозвали гриб «фиксатым». Хуже рисунков на стенах в детском саду была только настенная живопись в детской поликлинике по соседству. Те из детей, кто не успел в совсем раннем детстве насмерть испугаться в поликлинике, узнавал, что такое настоящий ужас, в младшей группе детского сада. В поликлинике на стене изобразили мультяшных кота Леопольда и мышей. Я этот мультик ненавидела. Отчего-то художник выбрал серию, в которой кот обожрался таблеток озверина, и тщательно скопировал образ. Кот на стене получился страшным, с усами дыбом. Он пытался наброситься на мышей, выпустив здоровенные, как сабли, когти. У художника явно имелись проблемы с масштабом, иначе почему он нарисовал когти размером в две Леопольдовых головы? Мыши тоже не вызывали умиления. Толстый серый мышь бережно обнимал собственную лапу, закатанную в здоровенный гипс, а худенький белый мышонок держался за платок, обмотанный вокруг головы – у него болели зубы, да так, что на щеке выросла здоровенная опухоль.
Вот взрослые убеждены, что все дети любят рисовать или раскрашивать. И, глядя на детские каракули, хвалят детей. Иногда лучше сразу сказать ребенку правду, а то он потом вырастет и станет художником. И примется рисовать на стенах детских поликлиник и садиков. А дети получат эмоциональную травму уже в младенческом возрасте.
Что еще я могу рассказать для начала? В саду все дети резко взрослели. Самообслуживаться мы начинали очень рано. Ясельники быстро приучались к горшку, а к младшей группе все уверенно орудовали ложками. В средней группе завязывали шнурки чуть ли не морскими узлами, а те, кто не обладал этим навыком, считались умственно отсталыми. И получали все шансы на изгнание из садика. Ходить в идиотах мало кому хотелось. Мы знали, как нас зовут, домашний адрес, имя-отчество-фамилию мамы, имя-отчество воспитательницы. Отвечали четко, не задумываясь. А если задумался или не повезло с именем-отчеством – Вячеслав Станиславович какой-нибудь, или Александр Александрович, или, еще хуже, Всеволодович, то тоже отправляйся в другой сад с диагнозом. В нашем «приличном» детском саду такие дети не нужны.
Мы все чувствовали себя одинокими. Даже дети из приличных семей, все были равны в своем одиночестве. Да, мы ощущали себя лишними. Как в детской игре, которой нас изрядно мучили с младшей группы – «третий лишний». Мы были лишними, мешающими родителям спокойно жить, работать, ссориться, мириться, заводить новых детей, уезжать в командировки. Мы становились лишними дома, поэтому нас отдавали в детский сад. Наши родители – такие же лишние дети, только выросшие. Они считали, что если ребенок не ходит в садик, то он не выживет в школе, не подготовится к жизни. И ему будет непременно плохо потом. А о том, что нам, детям, было плохо сейчас, никто не думал. Садик считался обязательным пунктом в жизненной программе, по которой жили наши родители и их родители, и наших детей ждала та же участь – ясли, детский сад, школа, институт, работа. Коллектив. Начальство. Праздники и отпуск, согласно графику. Больничный лучше не брать.
Друзья-товарищи? Нет. Привязанность к кому-то в саду приравнивалась к подарку судьбы, потому что друзья в любой момент могли исчезнуть – перейти в другой садик, уехать, получить диагноз. Дети «по прописке» не могли дружить с «приличными» детьми – слишком разный уровень жизни, слишком различались мы сами, а родители поддерживали это убеждение. Да, бывали случаи, когда дружили мамы детей из одной группы, и тогда дети тоже общались. Но нередко ненавидели друг друга. И пока мамы дружили, их отпрыски готовились к уничтожению товарища по неволе. К счастью, все заканчивалось ушибом или вывихом, разбитой губой, сломанной любимой игрушкой. Иногда мамы ссорились и переставали дружить, а детям, еще вчера обреченным на общение, полагалось игнорировать друга. Вот тогда бывшие враги и находили общий язык. Назло родительницам.
К старшей группе мы убеждали себя в том, что друзей лучше не заводить, чтобы потом не терять их и не испытывать боли разлуки. Не всем это удавалось, я так и не справилась с заданием. Мы, наше поколение, научились одиночеству. И в этом заключалась наша сила. Но если дружба случалась, как у меня, например, то эта связь становилась крепче семейных уз. Семья? Никто из нас не жил в нормальной семье. Да мы и не знали, что считается «нормальным». Но мы научились не бояться взрослых, ведь они хуже нас, детей. Взрослые на поверку оказывались еще более одинокими, чем мы. Врали они уж точно ловчее нас. И даже умудрялись растерять все то хорошее, что имели мы, – чувства. Благодарность, признательность, искренность. Способность любить, горевать, прощать, начинать все сначала. Нас не учили любить, радоваться, восхищаться, гордиться. Нас учили выживать, врать, терпеть, страдать молча, не показывать своих слез. Нас учили приспосабливаться, вливаться в коллектив, становиться тенью, желательно немой и глухой. Наше поколение – холодное, жесткое, циничное, нервное и при всем при этом очень отзывчивое, сохранившее доброту и навык удивляться, радоваться и ценить то, что имеешь.
Что мы узнавали с раннего детства? Нельзя «якать» и выставлять себя или свои достижения напоказ. «Я – последняя буква алфавита», – твердили все поголовно воспитательницы. Запрещалось говорить «я могу», «я умею»: это считалось неприличным, хвастовством. Не дай бог было подумать про себя, что ты лучше, красивее, умнее, талантливее всех. Выживали дети с психологией середнячка. Пока лучших давили, а над слабыми издевались (что делали и дети и взрослые), эти середнячки могли жить спокойно. Мы росли без тактильных ощущений. Нас не обнимали, не целовали. «Телячьи нежности»; «Нечего нюни разводить»; «Мальчики не плачут»; «Мальчиков нельзя целовать – вырастут хлюпиками»; «Нельзя обнимать девочек – жизнь их потом не обнимет». Однажды я увидела, как мама при всех целует свою дочь, и замерла от этого зрелища, настолько пронзительного, что хотелось заплакать. «Вот вы ее опять лижете! – рявкнула воспитательница. – А мне с ней что потом делать?» Мама резко отстранилась от дочери, словно от чужой девочки. Словно «облизывание» приравнивалось к преступлению, из-за чего весь воспитательный процесс пошел бы насмарку. Да, я не слышала слова «поцелуй». Я слышала «лизаться». Объятия – такого слова тоже не существовало в нашем лексиконе. Существительное заменял глагол «тискаться», который резал мне уши. Мне не нравилось, как звучат эти слова – «лизаться», «тискаться». А еще был глагол «сосаться», но он считался совсем неприличным. Его ни в коем случае нельзя было повторять. Хотя впервые я его услышала, когда увидела родителей одной девочки. Ее папа с мамой вдруг остановились и поцеловались. И воспитательница сказала, что они «опять сосутся», и произнесла это таким тоном, будто они делали совсем уж что-то неприличное и стыдное.
Я не помню, как ни стараюсь, чтобы мама меня обняла или поцеловала. Даже на ночь. Мы бежали навстречу родителям, которые приходили нас забрать вечером из сада, и резко тормозили, наталкиваясь на непробиваемый щит. Отскакивали от него и делали вид, что вовсе и не бежали. Мама целовала меня в день моего рождения – чмокала в макушку. Нас не хвалили за успехи, чтобы мы «не зазнались». Поцелуи и объятия считались позволительными только бабушкам, поскольку «что с нее взять – избаловала ребенка, вот он и сел на голову, а скоро и ноги свесит». К бабушкам относились как к неизбежному злу, которое – это самое зло – может только испортить ребенка и навредить ему, но с ним приходилось считаться. У меня бабушки не было. Не знаю, каково это – быть расцелованной, закормленной и залюбленной вопреки всем запретам.
Мы все, мое поколение, рано начинали говорить – нам надо было выживать. Уже в пять лет умели ровно, без складок, застилать постель и ставить подушку «уголком». Подметать пол, мыть полы, вытирать пыль, поливать цветы – этими ерундовыми навыками мы овладевали еще в средней группе. Как и регулировать кран в ванной – тогда ни о каких смесителях никто и не слышал. Холодная вода отдельно, горячая – отдельно. Из горячего крана обычно тек кипяток. Пару раз ошпарив руки, смешивать воду научились все. А кто так и не научился – умывался холодной. Я ненавижу свое детство и воспоминания о нем. Ненавижу свой детский сад, дорогу к нему, помойку, даже две, и каждую ступеньку на лестнице. Я все отлично помню, хотя предпочла бы забыть. Именно тот год сделал меня такой, какой я стала – женщиной, которая не хочет иметь детей. Которая не способна любить и заботиться о собственной матери. У меня нет никаких чувств, я не умею жалеть. Даже животные меня не особо трогают. Я понимаю, что нужно пожалеть, но не умею это почувствовать. Не могу доверять никому, кроме самой себя. Я – чудовище, а не женщина. И я могла стать другой, если бы не тот год. Не та группа детского сада. Или нет? Или я все-таки не безнадежна и могу стать нормальной? Хотя бы как все?
Меня зовут Рита. Маргарита. Мама назвала меня в честь героини романа Булгакова, который считала своим любимым произведением. Я, естественно, романа не читала, но была уверена, что Маргарита там какая-то чокнутая на всю голову. Или моя мама ненормальная, раз другого имени не могла придумать. Разве можно называть дочь в честь романа? Всех девочек, которых я знала, называли в честь бабушек. Кстати, об этом я тоже часто думала – почему у меня нет бабушки? У всех же есть. Отца, не говоря уже о каком-нибудь дедушке, у меня тоже не нашлось, так что спросить, почему мама назвала меня Маргаритой, оказалось не у кого. Так что нет ничего удивительного в том, что я сразу была не такая, как все остальные дети: кукухой поехала.
Мое имя мне никогда не нравилось, поэтому я о нем столько думала. Обычно меня называли Риткой. Или просто Ритой. Мама иногда звала Ритулей. Да, и я была единственной Ритой в группе. Три Лены, две Светы, еще две Иры. Маши, Кати, Наташи – нормальные имена для девочек. А Рита – ненормальное. Когда в садике нас заставляли учить наши полные имена – имя, отчество, фамилия, я плакала каждый день. Маргарита Григорьевна Куприянова. Букву «эр» я начала выговаривать очень рано. Жизнь заставила. Маргарита Григорьевна. Разве можно подбирать такое имя под отчество? Это же чокнуться можно, пока выговоришь. Так же плохо было только моему другу Стасику. Его мама тоже с головой, кажется, не дружила. Стасик был Станиславом Эдвиновичем.
Получалось, что моего отца звали Григорием, то есть сокращенно Гришей. Вот это у меня вообще в голове не укладывалось. Да во всех группах детского сада, от младших до старших, не было ни одного Гриши. Мне иногда казалось, что мама вообще выдумала, что отца звали Гришей. Я не знала ни одного человека с таким именем. Когда Стасик произносил «Эдвинович», воспитательницы впадали в ступор. Про Эдвиновичей они никогда не слышали. И настаивали на Эдуардовиче, что тоже звучало так себе, но лучше, чем Эдвинович. Стасик сдался и соглашался на Эдуардовича.
Конечно, к старшей группе у нас у всех появились клички. Очевидные и понятные. У всех, кроме меня. Стасика звали, естественно, Очкариком, потому что он носил очки. Ленку Синицыну – Синицей. Толика Петляева – Жиртрестом или Сосиской, потому что толстый. Светку Иванову – Пипеткой. Потому что Светка-пипетка. Но мне досталось самое обидное из всех прозвищ. И в этом была виновата Ленка Синицына – звезда нашей группы, признанный лидер. Она считалась самой красивой девочкой, к тому же отличалась самыми лучшими нарядами и бантами. Естественно, Ленка была из «приличной» семьи, так же как и Светка Иванова – ее лучшая подружка. Светка была крупнее, почти такая же по габаритам, как Толик Петляев. Но у нее тоже имелись красивые платья и банты. Ленка – злая, обидчивая, капризная, делала все исподтишка. Пакостила так, чтобы на нее не подумали. Светка – добрая, простоватая и очень внушаемая, ходила за Ленкой хвостом и слушалась ее беспрекословно. Они всегда ходили парочкой и не дружили, например, со мной. Потому что я считалась странной и у меня, конечно же, не было таких красивых платьев и бантов. Тем более я же «по прописке».
Все девочки в группе завидовали Ленке и Светке. Считалось, что им дозволено больше, чем всем остальным детям в группе, ведь они – любимицы воспитательницы, Елены Ивановны. Но Ленка по натуре была трусоватой, поэтому со мной не связывалась. Ленка всем рассказала, что я дура и меня скоро переведут в садик для дебилов. Наверное, в ее словах присутствовала доля истины, но я четко усвоила: поскольку я в садике «по прописке», то перевести меня просто так не имеют права. Для этого требовалось доказать мой дебилизм. Хотя и это не являлось особой проблемой, просто Елене Ивановне не хотелось со мной связываться. Тем более что я старалась особо не выделяться. Если честно, мне очень хотелось стать нормальной, любимицей воспитательницы и приходить в садик с косами, заплетенными красивыми ленточками. Особенно гофрированными. Как же я мечтала о гофрированной ленте! Красной или синей. Мама покупала мне в универмаге обычные коричневые. Но и те лежали без особой надобности – мои короткие волосы никак не желали расти и заплести мне косы оказывалось непростой задачей, требующей особого навыка. Иногда по утрам мама делала мне хвостики и завязывала банты. Но с хвостами я становилась совсем страшной – мама не могла сделать ровно, один хвост оказывался выше другого и располагался где-нибудь над ухом. Прическа «я у мамы дурочка». Так что, заходя в группу, я тут же их срывала, чтобы не давать Ленке со Светкой лишнего повода меня дразнить.
Ленка всеми силами пыталась придумать мне прозвище. Но ни одно не приживалось, не приклеивалось. Ритка рифмовалось с Маргариткой, но это не прозвище, а вроде как имя. Я не была толстой, так что Сарделькой меня назвать никак не получалось. Как невозможно оказалось обозвать Доской или Воблой – худой я тоже не считалась. Каланча и Лилипутка отпадали – я по росту стояла ровно посередине. То есть я росла настолько обычной, что даже зацепиться не за что. Я бы так и проходила без прозвища, если бы не остригла Ленке челку во время тихого часа.
Не знаю, что на меня тогда нашло. У меня случались приступы странного поведения, которые я даже сама себе не могла объяснить. Накатывало что-то странное, словно и не я совершала поступки, а кто-то другой моими руками. А я смотрела на это как будто сверху или со стороны. Но могла поклясться, что это не я. Так случилось, когда я дома сняла занавеску, дорогую, которую мама долго «доставала» и очень гордилась своим приобретением, и разрезала ее на мелкие квадратики. Не то чтобы мне не нравилась занавеска – обычная, с цветочным орнаментом. Но когда я засыпала, мне казалось, что орнамент – цветы, как говорила мама, – превращается в пауков. Я, кажется, никогда не видела живых пауков, но рисунок меня пугал каждый вечер. Я не смела попросить маму сменить занавески, из-за которых не могла уснуть – помнила же, как мама гордилась тем, что их «достала» и «буквально вырвала». Когда мама увидела, что от занавесок остались клочки, она даже не стала меня ругать. Она ушла плакать на кухню. Впервые увидев, что мама плачет, я испугалась. А потом привыкла. Мама часто плакала. Когда человек что-то делает постоянно, на это перестаешь реагировать.
– Будешь спать без занавесок, – строго сказала мама.
Я очень обрадовалась. Мне нравилось голое окно. И свет нравился. Я не сдержалась и улыбнулась.
– Тебе смешно, да? – тут же взвилась мама.
– Нет, не смешно. – Я никак не могла стереть с лица улыбку.
Мама меня отшлепала. Сильно. Не полотенцем, не ремнем, а рукой. Было не столько больно, сколько обидно. Я бы не сказала, что мама меня била в детстве. Нет, по попе мне прилетало постоянно, но у мамы была легкая рука. Так что боли я не испытывала. Да, я знала, что некоторых детей бьют шнурами от утюга, мужскими ремнями и даже трубками от пылесоса. Так что могу смело сказать – мама меня не била. Рукой не считается.
Потом я постригла всех своих кукол. Их было всего три, и все – старые. Я оторвала им головы с коротко остриженными волосами и выбросила в мусорное ведро. Наверное, мама подумала, что я больная, потому что достала головы, прикрепила к обезглавленным кукольным туловищам и положила в ящик с игрушками. Я снова оторвала головы и выбросила. Зачем я оставляла туловища? Понятия не имею. Но мама больше не возвращала головы из помойки, а выбросила и туловища. Сделала вид, что ничего не произошло.
А потом я подстригла Ленку. У меня-то всегда была челка и короткая стрижка, которую мама называла красивым словом «каре». Но на самом деле я ходила, будто облизанная – тонкие волосы прилипали к голове или стояли дыбом, когда я снимала шапку. Челка липла ко лбу, который мама находила слишком широким для девочки. Она считала, что крупный лоб дозволительно иметь мальчику (это свидетельствует о его высоком интеллекте), а для девочки лоб – недостаток. Впрочем, низкий лоб мама тоже считала иметь неприличным. Я сидела в парикмахерской, где мне ровняли челку, а мама в этот момент обсуждала с парикмахершей дозволенные размеры лба. Та кивала и спорить не собиралась. Еще я с детства ненавижу слово «выправится», мол, «вырастет, может, выправится». Так всегда говорили про меня. Я считалась не очень привлекательной девочкой, даже совсем непривлекательной, но оставалась слабая надежда на то, что я «выправлюсь» с возрастом. Куда я должна выправляться и когда наступит этот возраст, я не знала.
Когда я снимала шапку в раздевалке детского сада, все девочки смеялись и показывали на меня пальцем. Они называли меня «одуван». Но прозвище не приклеилось, хотя я бы только обрадовалась. Лучше уж «одуван». Но мой одуван быстро опадал, и я ходила с прилизанными волосенками и жалкой челочкой – две волосины в три ряда. Почему с прилизанными? Спросите об этом мою маму. Она считала, что мыть голову нужно не чаще одного раза в десять дней. Кто-то ей сказал, что волосы от редкого мытья станут крепче. Но уже к четвертому дню мои волосенки становились жирными, будто их смазали подсолнечным маслом. На самом деле не подсолнечным, а репейным, которое мама втирала мне в голову, добиваясь усиленного роста волос. И каждый день я выслушивала замечания от воспитательницы Елены Ивановны, которая пыталась для приличия сделать мне хвостик, перетянув волосы аптечной резинкой.
– Скажи маме, чтобы она тебе голову помыла, – говорила Елена Ивановна.
– Скажу, – кивала я.
– Что, ты опять с грязной головой? – возмущалась воспитательница на следующий день.
Не могла же я признаться Елене Ивановне, что уж лучше я буду ходить с грязной головой, чем лысой. Мама, наслушавшись советов, раздумывала о том, чтобы побрить меня наголо, и тогда мои волосенки превратятся в роскошную гриву.
Почему я решила отрезать волосы Ленке Синицыной? Потому что она обзывала меня «тифозной». Из-за вечно грязных и сальных волос, из-за короткой стрижки. Я просто хотела, чтобы она перестала обзываться и задаваться. У нее была длинная коса, и Елена Ивановна, расчесывая Ленку, всегда говорила остальным девочкам – вот, смотрите, в чем настоящая женская красота. В такой косе. Поэтому Леночка очень красивая. И все мальчики будут у ее ног. Разве это Ленкина заслуга? Разве она что-то сделала для того, чтобы у нее выросла такая коса? Просто ей повезло, а мне нет.
Во время тихого часа я откромсала ей прядь надо лбом. Куда дотянулась, там и откромсала. Ленка ничего не заметила. Зато заметила Елена Ивановна, когда стала причесывать девочек после дневного сна.
– Леночка, откуда? Утром же не было! – ахнула в ужасе воспитательница.
Ленка побежала в туалет, где висело зеркало, и тут же начала плакать, будто ей не волосы отстригли, а палец отрезали. Никто не видел, что именно я отстригла Ленке волосы, но она сразу же подумала на меня. Потому что я терпеть ее не могла и никогда не спала в тихий час. Вот тогда у нее и вырвалось: «Ретуза». Это прозвище приклеилось. Я осталась Ретузой. Даже Елена Ивановна меня так называла.
Как же Ленка тогда плакала над своими волосами! Просто надрывалась. И Елена Ивановна плакала. И все остальные девочки из чувства солидарности терли руками глаза, чтобы Елена Ивановна увидела, что они тоже переживают и умеют «сострадать». Даже я заплакала, но только для виду. Чтобы на меня не подумали. И от радости – Елена Ивановна не поверила, что это я. Потому что для нее я была никем. Странной девочкой «по прописке», с виду нормальной, тихой.
Вот тоже удивительно: мы все делали напоказ – плакали, улыбались, смеялись, читали, клеили аппликации, танцевали и пели. Мы ничего не делали в удовольствие, в радость. Почему-то положительные эмоции из нас выжигали каленым железом. Если мы пели на уроке музыки, то только для того, чтобы выступить перед родителями. Если клеили или лепили, то исключительно для конкурса поделок. Рисовали – по заданной теме. Танцевали – тоже для того, чтобы показать танец на утреннике. Отчитаться. Не для себя. Для родителей, заведующей и прочих взрослых. Удовольствие, полученное от занятия, считалось ненормальным.
«Полечку» все начинали учить в младшей группе, и к старшей мы могли станцевать ее ночью, если разбудить. Песни заучивались до автоматизма, и к старшей группе мы пели вполне слаженно. Оценок нашим стараниям насчитывалось всего две: «стыдно показывать» и «не стыдно показывать». В старшей группе мы все делали как солдаты на плацу. И ненавидели каждую строчку стиха, каждый куплет песни. Костюмы для постановок принадлежали предыдущим поколениям детсадовцев, и они оказывались или нещадно малы во всех местах, или настолько велики, что висели мешками. Ни разу ни один костюм не оказался впору. Никому. И это считалось нормальным. Любые отклонения от нормы приводили в ужас воспитательницу и музыкального работника – Флору Лориковну. Хотя нет. Только Елена Ивановна пребывала в ужасе. А Флора только делала вид.
Флору Лориковну любили все. Она была другая, не такая, как взрослые вокруг. Больше похожа на нас, детей. Пугалась, если громко хлопала дверь. Аплодировала, если мы хорошо спели. Даже иногда подпрыгивала от радости на крутящемся стуле возле пианино. Она разрешала нам сесть на этот стул и покрутиться. Никогда не ругалась, даже если мы бегали и не слушались. А еще у нее был фокус. Она подзывала кого-нибудь из расшалившихся детей и показывала на клавишу на пианино, которую нужно нажать. Ребенок нажимал, а Флора Лориковна подыгрывала, и получалась настоящая музыка. Будто не одна она играет, а вместе с ребенком. Она играла нам колыбельные и даже пела на незнакомом языке. Нет, конечно, мы все учили «Крылатые качели» и «У дороги чибис». Главная задача – выучить слова и спеть громко. Но иногда Флора Лориковна просто играла нам, если мы сидели тихо и слушали. А мы сидели и слушали, потому что она играла очень красиво и здорово.
Мне нравилось называть ее по имени-отчеству. Я всегда старалась почаще обращаться к ней, чтобы еще раз произнести эти звуки, казавшиеся мне не менее волшебными, чем музыка. Такое имя – Флора. Единственное и неповторимое. Невероятно прекрасное. Ни у кого такого нет. Как же я хотела, чтобы меня тоже звали именем, которого нет ни у кого на всем свете!
– Почему у вас такое имя? – спросила я однажды.
– Не знаю, папа придумал. Мама хотела назвать меня Асмик. Означает «жасмин». А папа сказал, что я должна быть не одним цветком, а богиней всех цветов, и назвал Флорой. Была такая римская богиня, – рассмеялась Флора Лориковна.
– А вашего папу звали Лорик? – спросила я, хотя знала, что неприлично задавать такие вопросы взрослым.
– Да, – Флора Лориковна не рассердилась, – так и звали.
– А что значит это имя? – не унималась я.
– Ну, вообще-то перепел. Птичка такая. Так еще моя прабабушка моего отца назвала. Но потом, тогда ведь другое время было, тяжелое, сказали, что папу назвали по новым порядкам. И каждая буква означает слово – Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация.
Я хлопала глазами, поскольку ничего не понимала.
– Перепел. Имя переводится – перепел, – рассмеялась Флора Лориковна.
– А вас не дразнили в детстве за имя?
– Нет, зачем дразнить за имя? – удивилась она.
Флора Лориковна даже плакала, как плачут только дети. От обиды и несправедливости. От счастья и переизбытка чувств. Или просто так. Потому что дождь льет или, наоборот, солнце светит.
У нас была девочка в группе, еще в средней, потом она ушла – Катя Антонова. И был у нее такой красоты голос, что Флора Лориковна, когда ее услышала, заплакала. Катя призналась, что ее бабушка – оперная певица и часто поет с ней детские песни. Естественно и совершенно справедливо, Флора Лориковна назначила Катю солисткой. Она пела так, что даже мы – хор – старались по мере сил и способностей хоть немножко соответствовать ее исполнению. Флора Лориковна сияла от счастья и повторяла, что это будет лучшее выступление на утреннике. На генеральную репетицию пришли заведующая, Елена Ивановна и воспитательница другой группы. На утреннике должен был присутствовать шеф садика – его требовалось порадовать выступлением, а за это он бы отремонтировал и покрасил садику веранды.
Катя пела прекрасно – ее удивительный голос звенел, как весенний ручеек. Она пела легко, радостно и с явным удовольствием. Мы тоже запевали куплет как никогда прежде. Кто не мог – молчали и просто открывали рот. Кто мог – дотягивали ноты, правильно дышали и следили за руками Флоры Лориковны, которая дирижировала. Мы все хотели спеть так, чтобы Кате понравилось. И Флоре Лориковне тоже. Дети ведь все чувствуют. И когда они видят и слышат удивительное, из ряда вон выходящее, реагируют. Взрослые отреагировали по-другому.
Заведующая сидела с каменным лицом. Елена Ивановна тоже. Только воспитательница соседней группы, совсем молоденькая, улыбалась и хлопала нам.
– Вы что, не понимаете? – одернула ее заведующая.
– Чудесно! Такая девочка! – воскликнула воспитательница.
– Пусть дома поет, – прошипела заведующая.
– Но почему? – Воспитательница не понимала.
– По кочану и по капусте, – рявкнула заведующая, – одна выделилась, потом вторая, третья. И что? Это непедагогично. Не все дети талантливы, а наша задача – не развивать их способности, а подготовить к жизни. К общественной жизни, в социуме. Школа, институт, пэтэу, наконец. Не все станут профессорами. Так что и нечего. Разве вы не проходили основы педагогической этики в институте? Странно.
– Девочка просто пела. – Воспитательница чуть не плакала, но все еще отстаивала свое мнение.
– Да, сейчас она просто пела. Но уже чувствует собственную исключительность. А что потом? Вдруг она перестанет петь? Потеряет голос? Или найдется девочка, которая будет петь лучше? И что тогда? А я вам скажу – что! Мы будем виноваты в том, что девочка этого не переживет. Как она станет жить без своего исключительного дара? Так вот, наша задача, как воспитателей, как специалистов по дошкольному образованию, – заложить в ребенка основы. Основные требования. Исключительность пусть в других садах развивают. Не в нашем. Есть сады для детей с отклонениями, есть – для так называемых талантов. Очень часто, кстати, эти дети оказываются в одном месте. Так что давайте воспитаем здорового ребенка, прежде всего психически. Дети поют хором, громко – вот пусть и она поет в общем хоре.