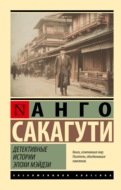Kitobni o'qish: «Потерянный для любви»
Перевод с английского Е. Пономаренко
Школа перевода В. Баканова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
Глава I
Да, все умрет; наш мир – лишь сон чудесный,
И то немногое, что счастьем нам дано,
Как камышинки пух – такой прелестный,
Однако дунет ветерок – и нет его.
Альфред де Мюссе. Сувенир
Доктор Олливант одиноко сидел у себя в библиотеке, также служившей ему врачебным кабинетом, – просторной комнате, пристроенной позади его дома на Уимпол-стрит. Рабочий день закончился, он был долгим и трудным, поскольку к тридцати шести годам доктор обзавелся обширной практикой, которая неплохо вознаграждала его за преданность науке, но оставляла мало времени для жизненных удовольствий. Да и вообще сомнительно, что доктор понимал значение слова «удовольствие», – разве что читал его определение в словарях. Его отец был трудолюбивым (и алчным, добавляли окружающие) сельским врачом и с самого раннего возраста, когда детский разум еще так подвержен внушению, стремился привить сыну правильное, с его точки зрения, представление: жизнь предназначена для упорного труда, без которого человеку не достичь успеха, а мирской успех является высшим благом, к которому может стремиться душа.
Катберт Олливант урок усвоил, но на собственный манер. Не превзойди он умом отца, скорее всего ограничил бы для себя концепцию преемника, как это называл его родитель, «продолжением начатого» – упрочением и совершенствованием отцовской практики, стабильным поддержанием старомодного семейного дела в сонном архаичном городке Лонг-Саттон в Линкольншире. Но паренек оказался наделен таким интеллектом, какой еще не освещал фамильное древо Олливантов в текущем столетии, и для него успех лежал в новизне: использовании современных идей, шаге вверх по лестнице науки или если не в настоящем изобретении, то хотя бы в таком применении мудрости прошлого, которое позволит достичь чего-то нового в настоящем.
Для юноши с такими устремлениями Лонг-Саттон оказался слишком мал. Сэмюэль Олливант чуть не повырывал остатки редких волос, окружавших его лысую макушку, когда, пройдя практику в больницах и завершив обычный курс обучения, сын сообщил ему, что не вернется в ленивый линкольнширский городок, где обретался и благоденствовал его род из поколения в поколение. Отец мог передать старую добрую семейную практику кому угодно. Он же, Катберт, останется в Лондоне – собственно, его уже избрали приходским врачом в густонаселенном районе Бетнал-Грин. Оплата минимальная, весело писал он, зато опыт будет колоссальным.
Мистер Олливант стонал и скрипел зубами; объявил жене, что ее сын – идиот, но ничто из того, что он мог сказать отбившемуся от рук молодому человеку, не способно было поколебать намерений последнего. В двадцать три года Катберт приступил к работе в окрестностях Бетнал-Грин, упорно трудился там до двадцати шести, и, не считая обязательных визитов в родительский дом на Рождество, в Лонг-Саттоне его больше не видели. Спустя три года неусыпного служения – на памяти старейшего из кураторов таких приходских врачей еще не было – он отправился за границу: учился во Франции и Германии, добрался до Санкт-Петербурга, познакомился со всеми медицинскими школами, а и за пару месяцев до своего тридцатилетия был призван обратно в Англию к смертному одру своего отца.
– Ты совершил огромную ошибку в жизни, Катберт, – сказал старик в тот краткий час, когда был в состоянии здраво поговорить с сыном. – Здесь ты мог обзавестись великолепной практикой, если бы только остался работать со мной в прошедшие семь лет. А так дело пришло в упадок. Я постарел, но мне не хотелось работать с чужим человеком, поэтому так и не взял себе напарника. Филби и Джексон подорвали мои позиции, Катберт, и практика уже совсем не та, какой была в твои школьные годы, когда приносила три сотни дохода в год. И все же я оставляю тебе небольшую, но приятную сумму. Это заслуга твоей матери – в деле экономии ей нет равных.
«Небольшая, но приятная сумма» исчислялась несколькими тысячами – вполне достаточно, чтобы Катберт Олливант сразу после похорон решился на следующий шаг. Он продал лонг-саттонскую практику Филби и Джексону, которые и так уже контролировали три четверти города, а с этой покупкой установили монополию. Он хотел продать и отцовское имущество, но тут вмешалась мать. Столы и стулья, может, и были устаревшими, громоздкими и неэлегантными, но других за всю свою замужнюю жизнь она не знала.
– Тридцать два года, Катберт, только представь себе!
– Представляю, матушка, и именно по этой причине мне кажется, что новую жизнь нужно начинать с новой мебелью.
– Новая жизнь – это уже не для меня, милый, и я так привязана к этим старым вещам!
Окинув нежным взглядом старинный испанский буфет красного дерева, она продолжила:
– Теперь таких уже не делают…
– Чему я только рад, – заметил нечестивый сын. – Перевозка, вероятно, обойдется дороже их стоимости, но, если они тебе так нравятся, матушка, будь по-твоему. Мне все равно, на каком стуле сидеть. Художественного вкуса у меня нет.
Так что и древний буфет, и секретеры, и комоды, и кровати с балдахинами ушедшей эпохи – вся мебель, пронизанная некой мрачностью, символизировавшей респектабельность, – были перевезены из Лонг-Саттона в дом, который Катберт Олливант снял на Уимпол-стрит, и, расставленные там по указаниям миссис Олливант, сделали лондонский дом почти таким же мрачным, темным и старомодным, как тот, где прошло детство Катберта. Хотя и саму Уимпол-стрит вряд ли можно было назвать яркой или веселой. Ее длина приводила случайного прохожего в отчаяние и совершенно не соизмерялась с шириной, из-за чего тень по ту сторону дороги угрюмо нависала над фасадами домов, отвернувшихся от полуденного солнца. Однако место было чрезвычайно респектабельное, даже фешенебельное – во всяком случае, относилось к Вест-Энду; и доктор Олливант, который получил ученую степень в Париже и теперь стремился к тому же самому в Лондоне, выбрал эту улицу местом своей работы. Он больше не был связан с Бетнал-Грин, но ежедневно, с восьми до десяти утра, бесплатно принимал своих былых пациентов. В первый год его жизни на Уимпол-стрит они составляли практически всю его практику. Затем мало-помалу слава о нем разошлась; во время путешествий по континенту он выбрал своей специализацией лечение сердечных заболеваний, написал небольшую книгу на эту тему и опубликовал ее в Лондоне и Париже. Благодаря этому он привлек внимание многих праздных людей, надумавших себе болезни сердца, и нескольких действительно от них страдавших. К нему приходили богатые старые леди и джентльмены, которые жили одни и чересчур хорошо; им нравились его манеры – серьезная и несколько холодная сдержанность, которая была, однако, вежливой и подразумевала глубокую мудрость, – и они выбирали его своим лечащим врачом. Научные труды «Олливант о сердечных заболеваниях» и «Олливант об аускультации» стали почти образцовыми. Одним словом, Катберт Олливант преуспел и к тому времени, как истекли первые пять лет аренды дома на Уимпол-стрит, создал себе положение, которое считал ступенькой к будущему признанию.
Мать жила теперь с ним, как когда-то он с ней в детстве, – рачительная хозяйка его дома, разумная собеседница в недолгие часы досуга. Крайняя приземленность любопытным образом сочеталась в ее характере с интеллектом и воображением. Она откладывала томик Вордсворта или Шелли, чтобы заказать ужин или составить список продуктов на неделю. Деньги сына она расходовала так, как не смог бы, вероятно, никто другой. За целый год миссис Олливант не позволяла пропасть впустую ни черствой корке, ни ложке жира; тем не менее ей удавалось сохранять уважение слуг и считаться щедрой хозяйкой. Простые ужины сына заказывались с благоразумием и готовились с изяществом, превзойти которое вряд ли удалось бы даже в клубе Вест-Энда. Каждая деталь сервировки была совершенством, хотя и без современного изящества: ни тонкое, почти призрачное, стекло, ни богато расписанная майолика не украшали стол. Старомодные графины из резного хрусталя, громоздкие тарелки сверкали и сияли на белоснежном полотне, но лучшим украшением было лицо пожилой дамы – женской копии сына – с глубокими серьезными глазами и улыбчивым белозубым ртом.
Было половина десятого мокрого ноябрьского вечера; тяжелые капли дождя стучали по мансардному окну над головой у доктора. После ужина он еще час беседовал с матерью о литературе и политике, поскольку она считала своим долгом интересоваться всем, что интересовало ее сына, и быть хорошо осведомленной в этих вопросах, а затем прошел к себе в комнату, чтобы взяться за последнюю научную книгу, достойную прочтения.
На чиппендейловском столике рядом с ним стоял старомодный серебряный чайник с чашкой на блюдце. Наливая чай, доктор мысленно улыбнулся – невесело и чуть иронично – и подумал: «Уже обзавелся привычками старого холостяка: чашка чая и ночные штудии. С другой стороны, молодым я никогда и не был – в общепринятом смысле этого слова».
Своим чутким слухом он уловил двойной стук во входную дверь.
– Так обычно стучит извозчик, – пробормотал он с легкой досадой, бросив тоскливый взгляд на открытую книгу. – Какой-то незваный гость зашел поболтать вечерком, вот досада! А я-то хотел докопаться до сути идей этого господина.
«Этим господином» был автор книги, внушительного тома страниц на пятьсот, половина из которых была еще не разрезана.
Доктор Олливант не отличался развитыми социальными инстинктами; тем не менее, как он говаривал матери, «нельзя идти по жизни без того, чтобы не нашлись люди, которые настаивают на знакомстве с тобой», а некоторые из этих людей оказались достаточно упрямыми, чтобы держаться с доктором на дружеской ноге, не спросив его мнения, – эдакие самопровозглашенные приятели. В основном к ним относились его коллеги. Два-три раза в год он приглашал их на ужин и время от времени терпел вечерние визиты, но не поощрял заглядывать чаще.
Пожилой слуга, который был доверенным секретарем его отца и переехал из Лонг-Саттона вместе с мебелью, принес ему карточку. Бросив на нее равнодушный взгляд, доктор Олливант просиял внезапной радостью.
– Марк Чамни! Подумать только! – мечтательно воскликнул он и обернулся к слуге: – Немедленно проводи этого господина сюда!
Он яростно поворошил угли в камине (любимая форма проявления радушия у мужчин), а затем пошел к двери навстречу гостю.
Мистер Чамни был его школьным товарищем двадцать с лишним лет назад, когда Катберт учился в частном интернате в западном графстве, и его лучшим другом в те времена, когда он еще верил в дружбу.
Нежданный гость шагнул из тусклого коридора под яркий белый свет кабинета. Высокий мужчина из тех, кого называют долговязыми, с длинными болтающимися руками и мертвенно-бледным лицом, которое было бы совершенно уродливым, если бы не глаза: кроткие и нежные, как у женщины.
Это был Марк Чамни, его защитник в минувшие дни, на четыре года старше доктора. Тогда Чамни был неуч и спортсмен. Катберт, хрупкий юноша четырнадцати лет, толковал Гомера и Вергилия своему другу, чье своевременное вмешательство защищало младшего мальчика от школьных хулиганов.
Катберт, и сам не лишенный мужества, боготворил Марка как воплощение силы и храбрости – как своего Ахилла, Гектора, Аякса. Они расстались, когда Марк окончил свой последний семестр, поклялись остаться друзьями на всю жизнь и с тех пор ни разу не виделись до сегодняшнего дня.
Доктор Олливант почувствовал слабый укол совести при виде переменившегося лица – такого знакомого, но, боже, насколько другого! – припомнив, как мало сделал, чтобы сохранить мальчишескую дружбу. Но не был ли и второй виноват в равной степени? Мужчины пожали друг другу руки.
– Я бы всегда тебя узнал! – заявил Марк.
Доктор Олливант не мог ответить ему тем же – разве что сжать руку друга еще крепче и признаться:
– Ты, пожалуй, единственный человек в мире, кого я рад видеть в этот вечер, Чамни.
– А я рад от тебя это слышать, Олливант, поскольку пришел требовать исполнения старого обещания – возможно, давно забытого.
– Нет, – серьезно ответил тот, – оно не забыто, если ты говоришь о нашей давней клятве навеки остаться друзьями. Я так и не научился заводить друзей. Не могу похвастаться ни одним настоящим с тех пор, когда ты принимал мою сторону против Голиафов из гимназии Хиллерсли.
Катберт Олливант произнес это так истово, как только мог, – горячность вообще не была ему свойственна.
– Странно, что мы ни разу нигде не столкнулись за все эти годы, – продолжил он после короткой паузы, пока мистер Чамни опускался в кресло с какой-то апатией или усталостью, составлявшей резкий контраст с той атлетической энергией, которую Катберт помнил по школе.
– Не так странно, как может показаться на первый взгляд, – возразил Чамни. – Ты когда-нибудь предпринимал попытки меня разыскать?
– Боюсь, после Хиллерсли у меня и дня свободного не было.
– Значит, нет. Дело в том, Олливант, что даже если б ты попробовал, это, по сути, ничего бы не изменило, ведь почти все это время я провел на овцеводческой ферме в Квинсленде.
Доктор почувствовал, как частично отпускают муки совести, терзавшие его с момента появления Марка Чамни.
– Что привело тебя в Квинсленд? – спросил он, вызвав звонком слугу, который, казалось, интуитивно понял, что от него требуется, поскольку незамедлительно явился с резными бокалами и графином шерри на старомодном серебряном подносе – одной из реликвий дома Олливантов. Даже бокалы были реликвией – тяжелее и грубее современных.
– Что привело меня в Квинсленд? – повторил гость, вытягивая длинные ноги в сторону очага и складывая на груди исхудалые руки. На нем был светло-серый костюм, визуально делавший его еще больше. – Авантюрная натура и отвращение к любому роду занятий, который ждал меня дома. Я не был гением в отличие от тебя, Катберт. Всегда ненавидел работать головой и позорно проваливал все экзамены в Хиллерсли, как ты, наверное, помнишь. Но считать-то я умел – только не те цифры, что написаны на бумаге. Я слышал о парнях, которые чудесным образом богатели на овцеводстве, так что, когда отец (процветающий нотариус в Эксетере) предложил мне у себя место практиканта, я не стал с ним спорить, а просто сбежал. Не буду утомлять тебя подробностями. Я покинул Эксетер с несколькими фунтами в кармане и отправился в Австралию простым матросом на корабле. Первый год или около того мне пришлось непросто, и я познакомился с голодом ближе, чем намеревался, но под конец второго года стал управляющим у скотовода, которому посчастливилось отхватить себе одну из лучших ферм в Дарлинг-Даунсе, раскинувшуюся на многие мили во всех направлениях. Он арендовал землю у правительства за символическую плату, и в дни перегона я стоял у ворот, помогая пересчитывать семьдесят тысяч проходивших через них овец. Мой наниматель заработал шестьдесят тысяч фунтов за неполные десять лет, но примерно за это же время окончательно спился. Он сделал меня своим компаньоном за несколько лет до смерти: белая горячка и деловая хватка несовместимы – это он хорошо понимал и знал, что без меня не справится. К тому времени как он умер, овец оставалось довольно мало, но денег, которые я скопил в австралийских банках, оказалось достаточно, чтобы выкупить его долю, и в тридцать лет я начал жизнь заново, имея двадцать тысяч фунтов после уплаты всех долгов. С тех пор я жил довольно успешно, хотя всякое бывало, и упорно трудился еще пятнадцать лет1, пока не решил, что пора вернуться в Англию и повидаться с дочерью.
– С дочерью? Так ты женился? – воскликнул доктор Олливант, словно это было самым противоестественным поступком для мужчины.
– Да, – ответил Чамни с глубоким вздохом. – На самой прекрасной девушке в мире. Она приехала в Хобарт гувернанткой – одинокое юное создание, почти без друзей. Я встретил ее во время одной из летних поездок и полюбил с первого взгляда. Вероятно, мой образ жизни на ферме – когда стоишь по пояс в воде, следя за мойкой овец, или скачешь тридцать миль до завтрака в поисках отбившегося животного, – делает мужчин восприимчивыми к женским чарам. Так или иначе, я по уши влюбился в Мэри Гровер и не успокоился, пока не сделал ей предложение. Поначалу она оробела, но ее застенчивость привлекла меня еще больше, а когда я проявил упорство, объяснила в самых милых выражениях, совсем не так, как я сейчас, что не хочет выходить за меня, поскольку считает себя недостойной: мол, в ее семье водились дурные люди – дед был из джентльменов, но его потомки каким-то образом опустились; короче, дала мне понять, что они просто шайка отъявленных негодяев, и она сбежала в другое полушарие, чтобы убраться от них подальше. Это меня ни капельки не смутило, я так ей и заявил. Я хотел жениться на ней, а не на ее семействе; короче, мало-помалу я добился ее расположения. Она призналась, что не испытывает ко мне неприязни, что я ей немного нравлюсь, потому что сильный и храбрый, сказала она – милая душа, да что она об этом знала! – и, наконец, что она предпочла бы вести уединенную жизнь со мной на холмах, а не учить детей французским глаголам и мажорным гаммам в Хобарте. После этого я больше не собирался терять время, так что три недели спустя мы поженились, и я забрал свою милую женушку на ферму. У меня был хороший деревянный дом с огромной верандой; его построил Джек Фергюсон, мой покойный компаньон, и я думал, что для нас это то, что надо. Но одному богу известно, что тому виной: климат или одинокая жизнь, которая ей не подошла, – только любимая моя ослабла и умерла всего через два года после нашей свадьбы и спустя лишь год, как подарила мне дочурку2.
– Надо было привезти жену домой, – заметил доктор.
– Я желал этого всем сердцем, но она не соглашалась. Стоило мне заговорить об этом, тут же расстраивалась. Ее упорное нежелание возвращаться в Англию было несокрушимо, а я терпеть не мог ее огорчать и не знал, что конец так близок. Она ускользнула от меня нежданно – как цветок, что высадил с вечера, а утром обнаружил мертвым.
Он поднялся и начал ходить по комнате, растревоженный этим волнующим воспоминанием. Катберт следил за ним с любопытством. Получается, жена действительно могла много значить для мужчины, а не быть пустой формальностью.
– Мне очень жаль, Марк, – по-дружески сказал он, все еще удивляясь, как такой большой человек может быть настолько огорчен потерей женщины. – Но у тебя осталась дочь, она должна быть твоим утешением.
Это была лишь машинальная попытка ободрить друга: доктор Олливант не имел ни малейшего представления о том, каким образом дочь может утешить мужчину.
– Она единственная радость в моей жизни! – горячо воскликнул его собеседник с буйным пылом, прозвучавшим еще резче на фоне степенного голоса доктора – музыкального, несмотря на суровые интонации; ведь благородный баритон был одним из самых богатых дарований доктора Олливанта.
– Тем не менее ты смог с ней расстаться? – переспросил доктор с оттенком удивления. Все это было не по его части, поскольку относилось к миру чувств, о котором он ничего не знал за исключением того, что прочел у любимца своей матери Вордсворта.
– А что мне оставалось: смотреть, как она чахнет и погибает вслед за моей любимой? Дело могло быть в климате, хотя здоровым мужчинам он был нипочем. Разве мог я подвергнуть Флору (правда, красивое имя выбрала ей мама?) хоть малейшему риску? Поэтому, когда малышке было два года от роду, я отправил ее домой с женой пастуха. Эта женщина отвезла ее прямиком к моей родне в Эксетер, но Флоре не исполнилось и семи, когда скончалась моя матушка, и отец отослал девочку в пансион близ Лондона. Вскоре он тоже умер, и крошка осталась совсем одна, без друзей, с чужими людьми. И все же, казалось, она была счастлива: по крайней мере, судя по ее письмам – милым детским письмам! Вот так она жила, а год назад я вернулся домой и снял в Лондоне дом, где и поселился с моей дочуркой (в прошлом апреле ей исполнилось семнадцать), чтобы провести с ней остаток своих дней, – завершил он с тихим вздохом.
– То есть ты прожил в Лондоне целый год и даже не пытался меня разыскать до сегодняшнего дня? – несколько обиженно спросил доктор.
– Ты прожил двадцать лет, не предпринимая попыток меня найти, – парировал его друг. – Сказать, что привело меня к тебе сегодня, Катберт? Вряд ли это будет лестно для призрака нашей мальчишеской дружбы – если от нее остался хотя бы призрак! – но я полагаю, ты уже осознал, что человеческая натура эгоистична. Я пришел из-за написанной тобой книги.
– Книги? Но я писал разве что медицинские брошюры.
– Вот именно. Как там ее? «О болезнях сердца», кажется. Еще задолго до отъезда из Квинсленда у меня появились основания подозревать, что здесь что-то неладно, – сказал Марк, коснувшись груди. – Я стал задыхаться, поднимаясь на самый пологий холм. Временами сердце начинало бешено биться, а временами возникала тупая тяжесть, как будто оно вообще замерло; бессонные ночи, вялость – с десяток неприятных симптомов. Обнаружив, что я не могу ходить так много, как раньше, я выматывал себя интенсивной верховой ездой, но это не исправило положение. Я списывал все на нервы или мнительность и яростно боролся со своими ощущениями.
– Ты обращался к специалистам?
– Не скажу, что их так уж много у нас на пастбищах. К тому же мне не хотелось, чтобы меня осматривал чужой человек. Я думал, что путешествие на родину пойдет мне на пользу, и поначалу оказался прав, но домашняя жизнь и эта мрачная атмосфера сыграли со мной злую шутку. Короче говоря, я считаю, что моя жизнь подходит к концу.
– А в Англии ты ко врачу не ходил?
– Нет. Видимо, та жизнь, какую я вел за океаном, превращает человека в дикаря. Незнакомцы вызывают у меня глубокую антипатию. Но однажды я читал «Таймс» и зацепился взглядом за твою фамилию в начале заметки – не сказать, что очень уж распространенную. Я вспомнил, что твой отец был врачом, и подумал, что стоило бы зайти и проверить: а вдруг доктор Олливант с Уимпол-стрит окажется тем малышом, которого мне доводилось выручать от побоев в Хиллерсли.
– Старина! – Доктор протянул руку своему школьному другу с нехарактерной для него теплотой. – Дай-то бог, чтобы чутье, которое привело тебя ко мне, оказалось тем, что поставит тебя на путь исцеления! Осмелюсь предположить, что воображаемая болезнь сердца – всего лишь следствие естественной депрессии, вызванной твоей утратой и одинокой жизнью в Австралии. Смена воздуха, обстановки, новые занятия…
– …ничем мне не помогли, – уверенно ответил Марк.
Доктор Олливант впервые испытующе оглядел друга как врач. На внимательный взгляд специалиста, изможденное лицо, впалые щеки и тусклые глаза свидетельствовали о подорванном здоровье, если не об органическом заболевании.
– Приходи завтра утром, – сказал он успокаивающим профессиональным тоном. – Я тебя тщательно осмотрю. Полагаю, все окажется гораздо лучше, чем ты думаешь.
– Сегодняшний вечер ничуть не хуже завтрашнего утра, – невозмутимо возразил мистер Чамни, словно они обсуждали простой хозяйственный вопрос. – Почему нет?
– Ну, как пожелаешь. Я просто подумал, что ты предпочтешь провести вечер за дружеской беседой о старых временах, поднимешься со мной в гостиную и позволишь представить тебя матушке.
– Буду рад познакомиться с твоей матушкой и повспоминать прошлое, но сперва я хотел бы разобраться с делом.
– Как скажешь. Тогда будь умницей, сними пиджак и жилет. Я запру дверь, чтобы нам не мешали.
Доктор достал из ближнего ящичка стетоскоп и приступил к обследованию с тем спокойным профессиональным видом, который оказывает на людей умиротворяющее воздействие: как будто ему всего только требуется выяснить, что не так в человеческой машине, чтобы тут же ее исправить. Но пока он выстукивал и прослушивал, его лицо становилось все серьезнее, и чем дольше продолжался осмотр, тем более озабоченным выглядел доктор, пока через десять минут, которые пациенту показались еще длиннее, с тихим вздохом не поднял голову от широкой груди Марка Чамни, откладывая стетоскоп.
– Значит, я прав, – заключил мистер Чамни недрогнувшим голосом.
– Боюсь, что так.
– Что за неуверенный тон? Ты же все понял.
– Ты болен, приходится это признать, – осторожно ответил доктор. – Я был бы не прав, отрицая это. Но такое заболевание не всегда приводит к смерти. При должном уходе можно дожить до глубокой старости, несмотря на органическое расстройство, подобное твоему, и даже хуже. Знавал я одного с подобным недугом – он дожил до восьмидесяти и в итоге умер от бронхита. Тебе нужно заботиться о себе, Чамни, вот и все.
И доктор приступил к описанию необходимого режима, в основном состоящего из ограничений. Пациент должен был избегать одного, не делать другого и все в таком роде; воздерживаться от физических нагрузок, не волноваться и рано ложиться спать.
– Жалкое унылое существование! – посетовал мистер Чамни, когда доктор закончил с предписаниями. – А я-то думал, что вернусь домой и смогу наконец развлечься: поохотиться с гончими, арендовать яхту, показать дочурке мир – короче говоря, пожить в свое удовольствие. Но это ставит крест на моих планах. Если бы не Флора, я бы, наверное, рискнул взять от жизни все, что успею, пока она не закончилась. Но мне не на кого рассчитывать: нет никого, кто позаботился бы о девочке после моей смерти.
– Можешь рассчитывать на меня, – ответил доктор Олливант, – и на мою матушку в придачу.
– А знаешь, что-то подобное и вертелось у меня в голове, когда я шел к тебе сегодня вечером, Катберт. «Если это мой Олливант и из него вышел такой хороший человек, какой ожидался, он может стать другом моей малышке, когда мне придет конец», – сказал я себе. И твоя мать ведь еще жива? Как удобно!
– Да, и, вероятно, проживет еще много лет, хвала Господу, – ответил доктор. – Приходи к нам завтра вместе с дочерью, Марк! Я человек занятой, как можешь догадаться, но у матушки достаточно свободного времени для дружбы.
– Обязательно! Но ты, кстати, кое о чем умолчал, хотя это, наверное, и так понятно. При таком заболевании можно умереть в любой момент, правильно?
– Ну… да, в таких случаях существует вероятность внезапной смерти.