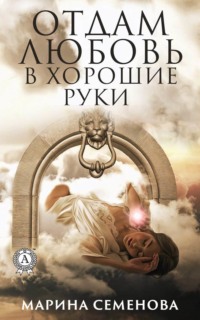Kitobni o'qish: «Отдам любовь в хорошие руки»
Люди мечтают о разном. Одним хочется встретить настоящую любовь, ту, которая «однажды и на всю жизнь», другим не терпится получить отдельную квартиру или усесться за руль собственного авто, а кто-то спит и видит себя в кресле начальника. Многим мечтается отдохнуть в Санторино, а кое-кому – просто отдохнуть. Упасть между грядок с морковкой и ни о чем не думать. Ведь, мало у кого это получается – ни о чем не думать. Говорят, для этого существуют особые практики и специальные тренировки.
Не скажу, что и в моих мечтах всего этого нет – любви, машины, квартиры и белого на синем Санторино. Конечно – есть. Но, хочу я совсем другого. Больше всего на свете мне хочется подойти к своему мужу и произнести тихо, делая нужные паузы между словами, отвечающие правилам пунктуации и вкладываемого в них смысла: «Я ухожу от тебя, Коля». А потом – собрать чемоданы и уйти. Навсегда.
Вот уже пять лет я живу с человеком, которого не просто не люблю, а с трудом терплю, порой даже глухо ненавижу, особенно в те минуты, когда он принимается активно доказывать мне свое гендерное превосходство, стуча кулаком по столу или по двери ванной, в которой я от него прячусь. И тогда, муж срывает с этой двери шпингалет, выдирает беднягу с мясом, после чего он долго болтается на одном винтике, жалобно позвякивая, словно просит, чтобы его прикрутили обратно. И я прикручиваю, вооружившись дежурной отверткой «на крест». Я давно научилась разбираться в отвёртках, как и подобает женщинам, живущим с мужчинами, которым «на это наплевать». На это и на всё остальное. Они так и заявляют гордо: «Да мне плевать, что ты там думаешь (хочешь, говоришь, о чём мечтаешь и про что тревожишься)!»
В ванной я прячусь не от мужа, а от самой себя, вернее – от той ярости и отчаянья, которые накрывают меня с головой. Я боюсь, что однажды, не выдержав его пьяного ора, схвачу со стола кухонный нож, грязный, весь в останках ливерной колбасы, дешевого паштета, ошметков кильки в томате и ещё чего-то, трудно распознаваемого, чем Коля обычно закусывает, накладывая на огромный ломоть батона, перед тем, как отправить всё это в жадно ловящий еду рот, схвачу – и всажу в потный и рыхлый Колин живот, чуть повыше выступающего из-под майки пупка.
Чтобы всего этого однажды не произошло, мне и нужно уйти. Но, уходить мне некуда. Впрочем, существует ещё одна, более веская, причина, по которой я живу в одной квартире с этим совершенно чуждым мне человеком – я очень хочу родить ребенка.
«Зачем рожать ребенка от алкоголика?» – пожмет плечами каждый из вас, и будет прав в этом своём недоумении. А я возражу – Коля – не алкоголик. Напивается он достаточно редко и только лишь от тоски и отчаяния. На тоску и отчаяние у Коли есть свои причины. И одна из них – я. Вернее, моя нелюбовь к нему. Коля просто не знает, что я не люблю не только его, а всех мужчин без исключения. Абсолютно всех. Хотя, нет уверенности, что Коле станет легче, если он об этом узнает.
Ребенка я хотела всегда. Я хотела ребенка уже тогда, когда сама была маленькой девочкой. Подруги качали на руках пластмассовых кукол, напевая им тихие колыбельные, а я отказывалась нянчить игрушки, мечтая побыстрее вырасти и стать самой лучшей на свете мамой. А ещё, я доводила родителей до изнеможения вопросами: «Когда вы родите мне братика или сестричку?».
Хорошо помню угрюмого соседа, жившего на первом этаже нашего дома, которым глупые соседки пугали своих непослушных детей. Огромный, седой и злобный, с нечесанными кудрями и такой же, торчащей во все стороны, бородой, то ли цыган, то ли татарин, он жил вдвоем со своей странноватой дочкой и ни с кем из соседей не общался. Поговаривали даже, что он принуждал к сожительству эту свою дочь, диковатую и нескладную, очень похожую на коротконогую лошадку пони. Правду говорили люди или нет, но, вскоре дочь соседа забеременела. От своего ли скудоумного отца или от кого другого – не известно. Забеременела – и к лету родила девочку. Родила, назвала Женькой и вскоре – исчезла.
Никогда мне не забыть этого затерянного судьбой ребенка, вечно голодного, немытого и абсолютно никому не нужного. Днями напролет Женька сидела у закрытого окна и выпрашивала у прохожих еду, жестами показывая на рот. Сердобольные соседи оставляли на её подоконнике хлеб, яблоки и конфеты, которые Женька забрать никак не могла, потому что окна в доме были наглухо заколочены гвоздями. По возвращении домой лохматый цыган-татарин сгребал громадными ручищами всё это пищевое милосердие и сбрасывал в палисадник, на радость крысам, котам и бродячим псам.
Тогда мне было лет семь-восемь, и хотела я только одного – чтобы нашего отвратительного соседа переехал автобус, трамвай или любое другое транспортное средство, и я бы смогла забрать Женьку к себе. Мечтала, как купаю её в своей, томящейся без дела в недрах кладовки, ванночке, как укутываю в мягкое пушистое полотенце со слониками и осторожно расчесываю тугие, непослушные кудряшки. А, расчесав, вяжу на угольно-черные волосы огромный красный бант, словно ставлю храбрую точку во всей этой безотрадной истории. Тогда я ещё не знала – чтобы взять маленького человека к себе жить – одной любви и желания мало, к этому необходимо добавить великое множество справок и документов, и отбыть не одно заседание каких-то там специальных комиссий.
Мне было настолько жаль вечно голодную Женьку, что однажды я не вытерпела и, схватив оставленный отцом молоток, выбежала из дома. Примчавшись к томящейся на подоконнике Женьке, я отчаянно замахала руками, умоляя уйти подальше. Девочка послушно соскользнула в полумрак комнаты, а я размахнулась и что есть силы ударила молотком по оконному стеклу. Разлетевшись во все стороны, прозрачная крошка больно чиркнула по мне, оставляя на коже множество мелких ярко-красных следов. Но, я не чувствовала боли, я хватала хлеб, конфеты и печенье, оставленные соседями, и забрасывала всё это в темную дыру окна. Потом помчалась домой и выгребла из холодильника всю имеющуюся там еду. А вернувшись назад, стала метать вглубь квартиры сосиски с котлетами, помидоры и сыр, победно призывая:
– На, Женька, ешь! Ешь и ничего не бойся!
Вечером старый цыган-татарин безжалостно избил внучку за разбитое окно. Я слышала тихое поскуливание без вины виноватой Женьки в ответ на хлесткие удары дедового ремня, и сердце моё замирало от боли. А ещё, от вскипающей в нем злости. Перелившийся через край гнев заставил меня кинуться на защиту слабого. Я ломилась в двери косматого мучителя, колотилась в неё кулаками, исступленно дергала за старую проржавевшую ручку. Безрезультатно. Мой первый в жизни протест был просто проигнорирован. И тогда, в порыве отчаяния, я принялась метаться от одной двери к другой, призывая соседей выйти и заступиться за Женьку.
– Люди, чего вы боитесь?! Вас же много, а он один! – кричала я, стучась в закрытые квартиры и захлебываясь слезами от злости и бессилия. Но, ни одна соседская дверь для меня не открылась.
И, я снова помчалась за отцовским молотком, мысленно представляя, как ударяю им по седой немытой голове гадкого старика, как он падает замертво и превращается в дохлого таракана, которого я хороню в спичечном коробке под смородиновым кустом. Хорошо, пусть не в таракана, пусть – в крысу или паука. Но, я была твёрдо убеждена, что злодей непременно должен во что-нибудь превратиться, во что-нибудь такое – предельно мерзкое. Он же ведь не настоящий человек, а заколдованный, потому что настоящие люди не могут быть настолько злыми и бездушными. Это я тогда так думала, в своём далёком розовом детстве.
Отец отловил меня на пороге. Отобрал молоток, привел в комнату и приказал сесть и успокоиться. Я не могла успокоиться, я рыдала и кричала, что там Женька и, что её надо спасать. Тогда отец отвел меня в ванную, умыл и сказал, что пойдет сейчас к нашему соседу и поговорит с ним.
– И скажешь, чтобы он никогда больше так не делал? – спросила я, начиная успокаиваться и верить во всемогущество собственного отца. Ещё бы! Никто из соседей не смог заступиться за Женьку, а он сможет.
– Конечно, скажу, – заверил меня отец и отправил ужинать.
В ту ночь я спала очень крепко. Я была уверена, что добро победило зло, что Женька больше не будет сидеть взаперти, и мы сможем с ней вместе играть, читать книжки и закапывать секретики под смородиновым кустом.
Утром я увидела, что Женькино окно заколочено фанерой, а ещё узнала о том, что мой отец никуда не ходил и ни с кем не разговаривал. Случайно узнала, из его разговора с матерью. Они очень были озабочены такой моей повышенной впечатлительностью и даже имели намерение отвести меня к специалисту по детским неврозам.
Именно тогда, притаившись за кухонной дверью и слушая встревоженные родительские голоса, я возненавидела своего отца, а вместе с ним и всех на свете мужчин. Абсолютно всех. Молодых и старых. Высоких и маленьких. Косматых и лысых. Бездушных и трусливых. Всех, дающих обещания и не выполняющих их.
А потом я выросла. Выросла и Женька, превратившись в такого же пугливого оленёнка-подростка, как её исчезнувшая навсегда мать. И снова соседи стали судачить о том, что теперь «старый нехристь трахает свою бессловесную внучку». Наверняка никто ничего не знал и доказать не мог, поэтому так и не известно – было все это на самом деле или нет.
Не раз я призывала соседей составить коллективное письмо и натравить на деда-извращенца надлежащие органы, но, одно дело сплетничать на скамейке у подъезда, совсем другое – оставить на бумаге свою фамилию и подпись. Никто из соседей свою подпись оставлять не хотел.
– Ты, Ирка, народ не подбивай! Это всё их семейные дела. Если б Женька хотела, то сама бы заявление куда надо снесла. А коли молчит, значит ее все устраивает, – пояснила мне румяная тетя Поля, вытирая пухлые руки о цветастый передник и пиная ногой кота, нацелившегося на батон вареной колбасы, лежащей на краю стола.
– А может, она его боится?!
– Конечно боится, ты ручищу его видела. Не ручища, а ковш от экскаватора! Вот и народ боится. От этого косматого демона всего можно ожидать – подкараулит в темном подъезде и молоточком по маковке – тюк!
На словах «молоточком по маковке – тюк!» меня враз накрыли воспоминания, и я заметно поежилась.
– Замерзла девчоночка? Давай чайку налью, горяченького! – отозвалась тетя Поля. – И бутербродик с колбаской, а?
Кот мгновенно возбудился от слова «колбаска» и принялся кружить у ног хозяйки. Та щедрой рукой отхватила от батона жопку размером с кулак и подбросила её к потолку. Кот подпрыгнул, ухватил на лету падающий с небес мясопродукт и в считанные секунды сожрал, громко урча от пищевого экстаза.
– И не подавится жеж, зараза, – с любовью в голосе улыбнулась тетя Поля, а я поторопилась отказаться от предложенного мне угощения и, простившись, ушла.
Когда Женьке исполнилось шестнадцать, дед продал квартиру и, погрузив скудные пожитки в старый, неведомо откуда взявшийся, УАЗик, отбыл с внучкой в неизвестном направлении. С тех пор Женькин след был для меня навсегда потерян.
В то время мне стукнуло двадцать, и я стала нравиться не только мальчишкам-одногодкам, но и мужчинам, к которым по-прежнему испытывала стойкую неприязнь. Исключение составляли только мужчины-художники по причине моего сильнейшего пристрастия к живописи. С самого детства я жадно припадала взглядом к попадающимся мне на глаза репродукциям картин, могла часами зависать в книжных магазинах, подолгу всматриваясь в выставленные на витрине альбомы по искусству, а если очень повезет, то и листать их, едва касаясь подобострастными пальчиками прохладного глянца. Мне всегда очень хотелось самой научиться рисовать, но, отважилась я на это только годам к десяти. При этом все рисунки тщательно прятала от посторонних глаз из страха явить миру своё несовершенство. То, что они несовершенны – я знала наверняка, но, продолжала переводить горы бумаги в надежде открыть в себе талант художника.
Талант открываться не хотел. По окончании школы я решила больше не мучить себя напрасными надеждами и навсегда забыть о своей мечте. Решила, забыла – и отправилась учиться на искусствоведа.
Родители не одобрили моего выбора (профессия искусствоведа была для них непонятной и абсолютно бесполезной) и всячески демонстрировали мне это своё неодобрение. Но, к счастью, они вскоре уехали. Подались на север, куда выманил их давний друг отца, обещая и уважительную зарплату и отдельное жильё. Меня с собой не позвали, знали, что всё равно не поеду.
И я осталась одна в пустой двухкомнатной квартире. Пустота квартиры меня не только не пугала, но, удивительным образом – радовала. Мне нравилось начинать каждый свой день заново, с чистого листа, напрочь забывая, что было вчера и не планируя никакого завтра. Моя жизнь напоминала рисунки на воде или песочные замки, непрочные и мимолётные, как реинкарнация бабочки.
Подруг у меня не было. Сверстники считали меня весьма странноватой. Хотя, со временем, как я уже говорила, эта моя странность, как раз, и стала притягивать ко мне мужское народонаселение. Знаете, существуют на свете эдакие любители ребусов, разгадывающие женщин с особым азартом, а разгадав – мгновенно теряют к нам интерес. Меня разгадать не получилось никому, может быть оттого, что я сама про себя мало что понимала. В моём неокрепшем сознании всё постоянно менялось, рождалось и умирало, и то, что ещё вчера лежало на поверхности – на завтра уходило в глубину. Я была непредсказуема и переменчива, как туман, оставаясь неизменной лишь в своей преданности живописи и детям.
Соседи и их знакомые, а также знакомые их знакомых, без опаски оставляли на меня своих чад, зная, что Ваню или Аню вовремя накормят, переоденут в сухое, выгуляют и всячески развлекут. Мои карманы, как беличье дупло, всегда были забиты орешками и леденцами, которые я скармливала всем девчонкам и мальчишкам, встречающимся мне на жизненном пути.
Ещё будучи ученицей восьмого класса, я отправилась в детский дом с просьбой разрешить мне играть с малышами, помогать нянечкам и воспитателям, приносить сладости и подарки, словом, как-то участвовать в гуманном процессе взращивания нежных детских душ. Седая усталая директриса посмотрела на меня без всякого энтузиазма и спросила, кутаясь в рыжую, такую же старую, как ее хозяйка, шаль:
– Тебе что, совсем нечем заняться, девочка?
– Нет… ну почему нечем… есть конечно, – растерялась я.
– Вот и не нужно тебе сюда… незачем. Иди влюбляйся, бегай на свидания, на танцы, в кино! А здесь… Здесь так много горя, сиротства и боли, что не всем взрослым по силам.
Мне очень хотелось возразить ей, сказать, что «я сильная и что смогу», но, она опередила меня.
– А ещё, здесь очень много несправедливости, лжи, предательства, – она выдыхала все эти признания с горечью, с какой-то привычной, почти будничной, болью. – И жестокости, – добавила еще одно слово тихо, прошелестела одними только губами, и взгляд её стал непроницаемым, как фартук рентгенолога.
Мне снова захотелось ей возразить, но, она одним взмахом руки, предельно кратким, но, властным, погасила мой порыв. После чего подошла к окну, хозяйским взглядом окинула двор, куда на перемене с громким ором выкатились ученики, остервенело волтузя друг друга и катаясь по жухлой листве и, где осипшая от крика воспитательница бесплодно взывала к миролюбию – никто из детей на неё не обращал никакого внимания.