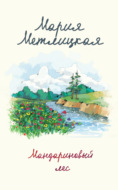Kitobni o'qish: «В тихом городке у моря»
Пролог
Иван сошел с поезда ранним утром, в полшестого, когда солнце еще не поднялось на окончательную пугающую высоту, обещавшую тяжелую и изнуряющую жару – юг, середина июля. Оно еще было мутновато-белым, словно прикрытым марлей, и пока еще вполне гуманным.
На этой маленькой, совсем небольшой станции поезд стоял всего пару минут – ну и достаточно! Тех, кто поспешно, растерянно оглядываясь, спрыгивал с дырчатых металлических ступеней на не остывший за ночь, все еще теплый, растрескавшийся асфальт, сквозь который буйно и нагло перли пучки пожелтевшей от зноя травы, было совсем немного, всего человек пять или шесть.
Выплюнув незначительных, как и сам пункт прибытия, пассажиров, поезд сердито фыркнул и с натугой тронулся дальше. Там, в его душном, прокаленном чреве, оставался народ поважнее – полноватые, лысоватые, хмурые мужчины в домашних пижамах и их попутчицы, тоже важные, хмурые и почему-то всем недовольные корпулентные дамы, старательно пытающиеся восстановить прически, свалявшиеся за душную и оттого бессонную ночь. В купе с и так застывшим, словно замершим воздухом невыносимо пахло удушливыми цветочными сладкими духами. С недовольными лицами и нескрываемым пренебрежением оглядывая друг друга, дамы занимали очередь в туалет и морщили носики – пахло оттуда ужасно.
Важные мужчины и их не менее важные спутницы ехали на юга́ – на курорт, к теплому морю. Там их уже поджидали улыбчивые медсестры и массажистки, внимательные, вежливые врачи, румяные, сдобные повара и ласковые, предупредительные горничные. Всё и все были готовы к их приезду.
Просторные номера ведомственных санаториев, с высоченными потолками, балконы с гипсовыми балясинами, мягкие перины и белоснежное, накрахмаленное белье, прохладный боржоми в зеленых бутылках на прикроватных тумбочках. И красные ковровые дорожки на широченных мраморных лестницах. Из столовой на свободу рвался сладковатый запах теплой сдобы, а в просторных, широких коридорах источали нежный аромат азалии. Парк в санатории был красив и ухожен – ровные дорожки из мелкого гравия, пышные клумбы с розами и георгинами, аккуратно подстриженные пальмы и голубые пушистые елки.
Здесь хмурым мужчинам и их спутницам предстояло провести двадцать четыре дня спокойной, размеренной жизни: все по расписанию, все на курортном листке, все для драгоценного здоровья, растраченного во имя и во благо родины!
Еще в поезде, точнее в тамбуре, когда выходил покурить, Иван бросал короткие взгляды на эту публику, и ему было смешно. Пары, конечно же, были семейными – а кто, извините, отправится в отпуск с дамой сердца? Конечно, никто – возбраняется. Только со своим самоваром. Эти важные дяденьки, партийные боссы и большие начальники, тащили с собой своих соратниц и верных (как правило) жен. Уже избалованных и – когда успели? – надоевших, если по правде, по самое горло. А любовницы, молодые и легконогие, веселые и ласковые, оставались дома, в своих коммунальных комнатках или общагах. Ну а кому повезло – в собственных, отдельных, квартирах.
Иван бросал на них косые взгляды и усмехался. Уж в провинции, он был уверен, народ точно попроще и подушевнее.
В то раннее утро, когда Иван спускался с чугунных ступенек вагона, важные мужья и их недовольные жены еще крепко спали – на курорт поезд прибывал через четыре часа. Проводница широко зевнула, клацнула дверью вагона и в который раз пожалела себя: «Эх, не поспать! Пора заводить титан –эти скоро проснутся – и понеслось!»
Иван стоял на перроне, жмурился от уже вполне нахального солнца и улыбался. «С прибытием! – поздравил он себя. – Ну, кажется, прибыл. Привет тебе, новая жизнь! А уж какой ты окажешься, кто его знает!»
Так он ободрил себя и, подхватив потертый тканевый, в сине-зеленую клетку чемодан, двинулся в обветшалое здание вокзала: облезлая желтая штукатурка, три такие же облезлые гипсовые колонны и гипсовый бюст вождя – все как положено, все как обычно, как везде.
В здании вокзала было прохладно, тихо и почти безлюдно. Две бабки ворковали, склонив друг к другу седые головы, тощий мужичок, прикрыв лицо помятой кепчонкой, похрапывал на скамейке и явно смущал товарок, бросавших на него беспокойные взгляды.
Киоск «Союзпечать» был еще закрыт, тучная, немолодая уборщица в синем халате, позевывая, вяло возила тряпкой по полу из серой гранитной крошки, а за буфетной стойкой пышногрудая – как всегда! – буфетчица протирала стаканы и раскладывала по тарелкам вчерашние булочки и бутерброды с подсохшим сыром.
Иван оценил обстановку и, выдохнув, бодро направился к буфетной стойке – крепкий сладкий чай и булочка, пусть даже вчерашняя, ему точно не повредят. А заодно и завяжется разговор – вокзальные буфетчицы знают все, такая профессия.
При ближайшем рассмотрении буфетчица оказалась молодой хмурой женщиной с длинным, недобрым белесым лицом.
Иван взял стакан чая, два кусочка рафинада, обернутых в бумагу, и булочку с изюмом. На вопрос, свежая ли, буфетчица неопределенно повела плечом – понимай как знаешь.
За серым мраморным столиком на длинной ноге Иван выпил свой чай. Булочка, кстати, оказалась приличной. Потом вернулся к стойке.
– Комнату? – Буфетчица снова зевнула. – Надолго?
Услышав ответ, посмотрела на него уже с интересом и повторила с усмешкой:
– На неопределенный срок? Ты отдыхающий или как?
– Или как, – усмехнулся Иван.
Не стесняясь, она пристально оглядела его и, посмотрев на вокзальные часы, висящие напротив, свела брови и хмуро бросила:
– Жди! Через полчаса смену сдадим, тогда и будет тебе комната! В лучшем, так сказать, виде. – Потом она обернулась и громко крикнула: – Любка!
В дверном проеме возникла молодая черноволосая женщина с недовольным лицом.
– Поди-ка сюда! – приказным тоном велела буфетчица. – Разговор тут имеется.
Вытирая руки о нечистый фартук, вызванная буфетчицей Любка нахмурила брови и медленно, нехотя подошла.
– Чего еще? – недовольно буркнула она. – Я еще не закончила.
– Квартиранта тебе нашла! – Буфетчица усмехнулась, показав ряд золотых зубов. – На неопределенный срок, слышь? Да о таком только мечтать, а? Короче, с тебя бутылка!
Любка взглянула на Ивана и покраснела.
– Тебе, что ль, комната?
Он кивнул:
– Мне.
– Подумать надо, прикинуть. Подожди, я через полчаса буду свободна. А пока погуляй, что ли? Проветрись.
– Понял. Через полчаса, значит? Ну пойду во двор, покурю. А заодно и проветрюсь.
Он вышел на улицу. Всего-то полчаса прошло, а солнце уже набрало! А что же днем, после полудня? Настроение немного подпортилось, но он тут же отругал себя, запретив думать о неприятном. В конце концов, он ехал на юг. Мечтал жить у моря. А то, что жара… Так лето же, самый разгар, верхушка. Ну не Африка же – попривыкнет! После туманного, серого, сырого и влажного Питера уж точно будет отлично.
При воспоминании о Питере заныло сердце – боже, какой он дурак! Разве можно сбежать от Питера? Вынуть, выкорчевать его из сердца? Оказалось, что можно. Как когда-то он вырвал из сердца Москву. Да и вообще – можно, нельзя… Надо. Иначе его просто не будет. Его и так уже почти нет, а еще немного, еще чуть-чуть – и не будет вовсе.
И раз он решился, то назад пути нет. Нашел силы попробовать, значит, найдутся и силы жить.
Любка появилась через полчаса, как и было условлено. При свете дня он увидел, что ей немного за тридцать, но ее красивое смуглое, чернобровое лицо было усталым, изнуренным, каким-то пожившим. Она была среднего роста, хорошо и крепко сложена, с ладной и аппетитной фигурой, тонкой талией, широкими бедрами, с большой, уже вяловатой грудью, нагло выпирающей из тесноватого сарафана.
– Ну что? Двинули? Или уже передумал? – поинтересовалась она.
Иван поторопился ответить:
– Да, да, конечно же, двинули. Не передумал, не беспокойтесь.
Любка оглядела его оценивающим, очень женским и довольно нахальным взглядом, словно прицениваясь – нужен ей такой жилец или нет.
Шли минут двадцать. Она – резво, не сбавляя темпа, Иван – с трудом поспевая за ней: жара, уже вполне ощутимая, бессонная, тревожная ночь в поезде, чемодан с неудобной ручкой, режущей ладонь. Ну и нога. Столько лет, а он все не мог привыкнуть. Шел, перекладывая из руки в руку чемодан и палку и отирая со лба пот.
– Далеко еще? – не выдержав, спросил он.
Любка обернулась:
– Устал?
Он разозлился и коротко бросил:
– Нет. Просто вранья не люблю. Говорила же – рядом!
«Может, зря я с ней? – подумал он. – Злая ведь баба. Видит, что с палкой».
– Пришли уже, считай, – буркнула она. – Теперь уже рядом.
И вправду, минут через пять Любка остановилась у низкого забора, сто лет назад выкрашенного в голубой «веселенький» цвет, давно полинявший и выглядевший неряшливо.
– Ну вот, пришли. А я смотрю, ты истомился!
Она стояла напротив него и, щурясь от солнца, нагло, беззастенчиво и бесцеремонно, не скрывая насмешки, снова разглядывала его.
Он видел ее красивое и недоброе лицо, темные, почти черные глаза в мелких, разбегающихся от края глаза к виску морщинках, крупный, красивый, яркий рот, грубые, неухоженные руки, крепкую длинную смуглую шею с ниткой дешевых пластмассовых бус и темные пятна, расплывшиеся в подмышках. Удивился: «И ей, привычной и местной, тоже жарко. Что говорить про меня? А хороша, – подумал он. – Но совсем не мой типаж. Слишком все выпукло, слишком ярко, слишком нахраписто. Все – слишком. И баба нахальная, и красота ее такая же – грубая и нахальная».
А Любка вдруг смутилась, нахмурила длинные, красивые, темные с отливом брови.
– Давай заходи! Сейчас отдохнешь. – Она принялась открывать калитку.
Ключ заедал, не хотел проворачиваться, но Иван намеренно не помогал. Еще чего! Сама разберется. Тоже мне, цаца!
А на душе было муторно, тяжко. Зачем? Зачем он затеял все это? Какая глупость, господи! Разве спрячешься от себя, разве убежишь? Нет, из города можно. Даже от женщины можно! А вот от себя – вряд ли. Себя повсюду таскаешь с собой. И жара эта, и посудомойка – странная баба, недобрая. Это сразу понятно. Ладно, что тут. Переночую, положу рубль на стол – и тю-тю! Не останусь наверняка. Не нравится мне эта Любка.
Наконец калитка поддалась, распахнулась, и Любка обернулась к Ивану:
– Ну заходи! Будем знакомиться.
После пустынной и жаркой улицы сразу пахнуло свежестью. Двор был тенистым, заросшим. Это, конечно, его обрадовало – выдохнул с облегчением. Нет, все-таки жара не для него. «Ладно, чего уж. Поглядим – посмотрим», – сказал он про себя.
Приговорка эта была от деда, любимого Степаныча. Тот так говаривал, когда ситуация жизненная была неясной, сложной или запутанной. «Поглядим – посмотрим», – и становилось легче. Это предполагало заменяемый и вполне приемлемый вариант. Выход, как говорится. Вариантов всегда несколько – тоже дедовы слова. Только надо хорошенько во всем этом дерьме покопаться.
Под разлапистым каштаном – Иван узнал его по крупным и резным листьям – стоял темный, кривой стол, за которым сидела старуха – тощая, темная, почти черная, с крючковатым носом и полузакрытым темным веком правым глазом. На маленькой сухой голове был накручен платок. Старуха Изергиль – тут же окрестил ее Иван. Страшная, прости господи, чистая баба-яга! Старуха перебирала черные ягоды. «Тутовник», – вспомнил Иван. Старухины скрюченные, страшные пальцы были окрашены в темно-фиолетовый, почти черный цвет.
Вскинув голову и высоко задрав подбородок, ба- ба-яга спросила скрипучим, резким, каркающим голосом:
– Опять привела?
– Жилец это, – коротко ответила Любка. – На вокзале словила.
На его робкое «Добрый день, уважаемая» старуха ответить не удосужилась, но взглядом, цепким, недобрым, острым и метким, как пуля, все же удостоила – и на том спасибо.
Было понятно, что это мать и дочь. Невзирая на яркую красоту молодой и абсолютную уродливость старой, сходство у них все же просматривалось.
Любка досадливо махнула рукой: дескать, не обращай внимания, и кивнула в глубь сада:
– Ну чего встал? Пошли? Или передумал?
Не дожидаясь ответа, пошла вперед по узкой, виляющей тропке.
Иван обреченно пошел за ней.
Домишко – нет, сараюшка, развалина, – был маленьким, низким, кривобоким, к тому же темным. Его почти не видно было со двора. Его опутывали, отгораживая от мира, густые кусты с крупными, темными, блестящими листьями.
Хозяйка толкнула покосившуюся дверцу:
– Проходи!
Иван шагнул через высокий порог.
Комнатуха неожиданно оказалась просторной – скорее всего, по причине почти полного отсутствия мебели и какой-либо домашней утвари. У подслеповатого оконца стояла узкая кровать с пружинной сеткой и проржавевшей стальной спинкой. На кровати, свернутый в трубку, лежал полосатый матрас. Сбоку притулилась кособокая самодельная тумбочка с гвоздем вместо ручки, на которой лежала раскрытая книга и стоял мутный граненый стакан с застывшим узором темно-красного цвета. «Вино», – догадался Иван.
На пол, на кое-как уложенные щелястые широкие доски была брошена куцая и рваная циновка. Напротив кровати, у стены, стояли маленький стол с фанерной столешницей и хлипкая табуретка с отставленной в сторону ногой.
Но было прохладно, свежо, тенисто, словно на улице не набирала силу тяжелая дневная жара.
Иван растерянно озирался по сторонам и молчал.
– Что, не подходит? – с недобрым смешком спросила Любка. – Ну тогда прощевай! Ступай в гостиницу. Десять минут ходу, «Юность» называется. Только чья? Вот вопрос!
– Что – чья? – не понял он.
– Юность, – сварливо повторила Любка и нетерпеливо уточнила: – Так что, не подходит?
– Подходит. А там поглядим – посмотрим.
Она, кажется, удивилась, но ничего не ответила. Наверняка ее жилье спросом не пользовалось.
– Ну и устраивайся тогда. Обживайся. А я тебе постельное принесу. А потом все обсудим.
– А плата? – спросил он. – Это обсудим прямо сейчас.
– Дорого не возьму, не за что. Пятерку в месяц осилишь?
Иван кивнул.
Любка постояла на пороге, словно раздумывая: спросить – не спросить? Но любопытство пересилило:
– А чего приехал? Ну, в смысле сюда? Отдохнуть?
– За счастьем, – ответил он и усмехнулся. – А счастье – это покой. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Так вот, я за покоем. Да и море. Всегда мечтал жить на море.
Она покачала головой:
– За покоем, говоришь? Думаешь, если медвежий угол, провинция, значит, покой?
– Надеюсь.
– Да не надейся! – неожиданно зло, с отчаянием сказала она. – Море, говоришь? Да будь оно проклято, это море!
От растерянности и неожиданности Иван вздрогнул. Но Любка уже вышла из хибары, хлопнув кривой и щелястой дверцей.
В изнеможении он опустился на кровать. Пружины заскрипели, заныли.
«Зачем? – в который раз повторил он. – Зачем я приехал сюда, в эту глушь, в эту жару? Покой? А она, наверное, права – покоя нигде нет, нигде. Наверняка ей виднее. Покой – он в душе. В душе, и только. Но «если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Ладно, поглядим – посмотрим.
Москва
Москва, родной город где прошло его детство, их комната на Арбате, в Староконюшенном, давно ушли в прошлое. В далекое прошлое. Если бы не дед, воспоминания бы вообще стерлись, исчезли, как не было. Да они и остались смутными, смазанными, словно припудренными. Но тогда точно было счастье – Иван это понял позже, потом.
Но по порядку.
Их комната в Староконюшенном. Первый, почти цокольный, этаж, темная, «слепая», как говорила бабка, прихожая и три двери напротив из крошечного коридора – Нинки Сумалеевой, Митрофаныча и их, Громовых. Деда Петра Степановича и бабки Марии Захаровны. Ну и его, «приживалы». Подкидыша Ваньки.
Комната была странной, полукруглой. Бабка ругалась, что из-за «этих чертовых круглых углов» не встает ровно мебель, бабка называла ее обстановкой. Хотя какая там обстановка, смешно! Две кровати, деда с бабкой и его, внука. Маленький кованый сундук с «постельным», стоявший под широченным подоконником, на котором Ваня в детстве играл. Узкий шифоньер с одеждой и овальный стол, за которым завтракали, обедали и ужинали. Да, и самая главная драгоценность: бабкина этажерка из красного дерева с ее же «наследством», над которым подтрунивал смешливый и колкий дед.
Бабка Маруся была страшной аккуратисткой и мещанкой, по словам деда: крахмальные, кипенные занавески на окошке, на подоконнике – малиновая и бледно-розовая герань. Коврик на стене и шелковое голубое, в золотых завитушках, «богатое» покрывало на высокой кровати. Тоже, конечно же, обильно украшенное пышными и высокими пуховыми подушками.
На хлипконогой этажерке стояло бабкино богатство – серые мраморные слоники в ряд. В детстве Иван обожал в них играть и изувечил их – некоторые после игрищ остались без хобота, другие без уха, а то и без ноги. Старший, самый большой, был, конечно же, военачальником. Ну а остальные делились по росту и, соответственно, званиям. «Армия калечных вояк», – смеялся дед.
Кроме слоновьей армии на этажерке притулились две чашки с голубыми розами – тонкие, полупрозрачные. Трогать их категорически не разрешалось. Чашки были наследные, из бабкиной когда-то зажиточной московской купеческой семьи.
Да, две чашки, слоны, серебряная сахарница с поломанным замочком и два бокала рубинового мальцевского стекла, девятнадцатый век. На одном из них был крошечный скол, и бабка переворачивала бокал сколом к стене. Трогать бокалы на позволялось, но в итоге Иван, конечно, один кокнул – именно целый, без скола.
Бабка орала как сумасшедшая, а дед хмурил густые светлые брови, молчал, а потом резко крикнул:
– Ну хватит! Всё. Разошлась из-за говна-то!
И бабка, как всегда, притихла – дед был в семье главным, хотя бабка и нападала на него, чего уж там.
Ванины родители, блудные – как называла их бабка, – появлялись в Староконюшенном редко. А вот сына подкинули рано – в полтора года он окончательно переселился к бабке и деду. Отец, лейтенант, получил свое первое назначение в Казахстан.
Родители от ребенка не отказывались – на этом настояла бабка: пугала их климатом, неподходящими условиями, отсутствием нормальной, «человеческой», по ее словам, еды. «Верблюжье молоко, говорите? Конина? Ешьте сами мясо с волосами!» – Бабка могла быть хамоватой, да и особенно не стеснялась. Кого стесняться?Эту? Невестку, мать любимого внука, бабка ненавидела до зубовного скрежета.
– Ваня останется у нас! – безапелляционно заявила она. – Нечего мотать ребенка по степям и жаре! Здесь, слава богу, он будет в нормальных условиях.
Дед ее поддержал. Это все и решило.
– Хотя бы на пару лет, – коротко сказал он. – А там заберете!
– Заберем, – обиженно ответил отец. – Не сомневайся.
Мать промолчала. Потом он узнал – она не возражала против того, чтобы оставить его в Староконюшенном. Даже рада была, по словам бабки Маруси.
Письма из Аршалы приходили нечасто – и писал их отец. Подробно описывая тяготы местной жизни и невыносимый степной климат. Про то, что обещали забрать сына, – молчок. Вроде бы есть оправдание. Бабка поджимала губы и швыряла очередное письмо на подоконник. Дед смотрел осуждающе, брал письмо и уходил на кухню – перечитывать, «вникать в подробности».
Так прошло четыре года. Маленький Ванька уже кое-что понимал и слушал по ночам, как бабка от души поливает его мать. Обидно ему не было – мать была для него уже чужим человеком. Да и лицо ее он помнил приблизительно, расплывчато.
Впервые в отпуск родители приехали спустя три года. Ванька страшно смутился, когда отец, чужой человек, протянул к нему крупные руки, пытаясь его поднять. От него крепко пахло табаком и кожей от ремня.
Мать, Лиля, стояла у двери, разглядывая сына.
Ванька резво выскочил в коридор и заперся в туалете. Вытащил его оттуда дед, уговаривая долго, терпеливо и ласково.
Пили только чай – стол хозяйственная и хлебосольная бабка дорогим гостям не накрыла. На столе стоял пышный высокий торт, принесенный родителями. Он запомнил, что бабка, известная сластена, к нему не прикоснулась. А дед сладкого не ел в принципе – чай пил с любимым постным сахаром, который обожал и внук Ванька. Желтый, розовый, фиолетовый и зеленый, круглый или квадратный, ломкий и сверкающий, как первый снежок.
И отец, как и бабка, торт не ел, да и чай, кажется, тоже не пил. А мать почему-то плакала, правда почти бесшумно, уткнувшись лицом в носовой платок, нелюбезно протянутый бабкой с довольно грубым «утрись!» и жаловалась на «невыносимые жизненные условия».
Наконец дед, до того сидевший молча и постукивающий костяшками пальцев по скатерти – признак высочайшей степени раздражения, – резко сказал:
– А зачем за военного шла? Думала, сразу за генерала?
Мать замолчала, икнула и испуганно посмотрела на свекра.
Все замолчали.
Ванька сидел на кровати и исподтишка разглядывал родителей.
Отец ему определенно нравился, потому что был похож на деда: такой же крупный, «сучковатый», как говорила бабка. С большими ладонями, широкими плечами и мощной «бычьей» шеей. Широкий «картофельный» нос, густые, кустистые темно-русые брови и пронзительная синева глаз, сохранившаяся до самой старости и по наследству перешедшая Ивану.
Отец ему понравился, а вот мать, пожалуй, не очень. Была она маленькой, очень худой и «невыразительной», по словам все той же острой на язык бабки. Правда, что это значит, Ваня не понимал. Лицо у матери было маленькое и узкое, нос – короткий и острый, глаза серые и тускловатые – суконные. И какой-то скукоженный, «подобранный» рот – куриная гузка. Плакала мать некрасиво, тряся головой в мелких кудряшках. Правда, кто плачет красиво?
В комнате висело глухое, тревожное и тяжелое молчание, прерывающееся только громкими глотками деда, с чем бабка всегда боролась. Но надо сказать, безуспешно. Бабка называла деда ваклахом, намекая на его крестьянское происхождение. А тот не обижался, посмеивался:
– Ну да, это вы у нас аристократы! Как же, столбовые дворяне – ни больше ни меньше!
Тягостная обстановка Ваньке надоела, и он отпросился во двор. Бабка тут же, что странно, его отпустила, впервые не дав указаний: со двора не уходить, в угольный подвал не лазать, на деревья тоже, к дворнику Абдуле не приставать и с Митькой Кургановым не драться.
Ваня с облегчением выскочил во двор – взрослые ему надоели.
Когда он вернулся, – начался страшный ливень, – отец и мать уже толкались в прихожей, собираясь уходить. Отец достал из кармана увесистую пачку денег и протянул ее бабке. Та было хотела ее взять, но тут же вздрогнула и с испугом посмотрела на мужа.
– Нам не надо, – сухо и твердо сказал дед, – справляемся.
– Хватит, батя! – устало ответил отец. – Хватит, ей-богу! А мы-то для чего?
– А вот этого я не знаю! И что-то никак не пойму! – глухо отозвался дед и, не попрощавшись, пошел в комнату.
Мать подошла к нему и присела на корточки.
– Ваня, мальчик! Мы завтра уезжаем. Но вернемся через пару недель, на обратном пути. Пойдем тогда в зоопарк? Ну, или в кино, а? – Она жалобно смотрела на него, хлопая мокрыми ресницами. Пыталась погладить по голове – он увернулся.
Потом подошел отец и взглянул на Ивана внимательно, словно изучая. Не выдержав его взгляда, Ванька отвел глаза. Отец погладил его по коротко стриженной голове и неловко чмокнул в макушку.
Вышли молча, провожать до лестницы не стали, хотя и было принято гостей провожать.
Когда хлопнула входная дверь, бабка плюхнулась на кровать, закрыла лицо руками и разрыдалась. Дед стоял у окна и молчал. Спустя пару минут бросил:
– Хватит, Маруся! Ничего не попишешь, будет как есть. Успокойся.
Ночью Ванька услышал бабкин горячий шепот:
– Стерва, сволочь! Какая она мать? На море они едут! В санаторий! Устала она, а? Отчего, ты мне не скажешь? А ребенок? Ему моря не надо? А им ребенка не надо? Три года не видели! Ненавижу ее, ненавижу! Всю жизнь ему сломала! И что он в ней нашел, а? Уродина ведь! Ни рожи, ни кожи! Хитрожопая гадина! Специально ведь подстроила все, пузом приперла! Знала ведь – он, дурак, не откажется! Потому что приличный. Вот идиота мы воспитали!
Бабка громко всхлипывала и глухо сморкалась. Дед молчал. Потом Ваня услышал, как он сказал свистящим шепотом:
– Спи уже. И мне дай. Все, закончили. Ничего не исправить. Будем жить, как жили. Спи, Маруся.
Но бабка еще долго что-то шептала и снова сморкалась. А потом Ванька уснул.
Никакого «на обратном пути» так и не было – потом он узнал, что родители вернулись в Казахстан через Ленинград – мать захотела повидаться с подругой. Выходило, что бабка права: никакой ребенок ей не нужен, подруга важнее.
Потом, когда бабки уже не было, он спросил у деда, за что бабка так ненавидела его мать.
– А за что ее было любить, Ваня? – ответил дед. – Женой она была никакой, хозяйкой тоже. Матерью – сам знаешь. А вот деньги любила. До невозможности любила, нездорово. Отца твоего корила – мало все, мало. На то не хватает, на это. Ну а потом… Ты же знаешь – бросила его. Нет, это, конечно, не плохо, а очень даже хорошо! Но сам понимаешь – неправильно. Выходит, Маруся, бабушка твоя, была права.
Родню со стороны матери Иван помнил плохо. Семья ее жила в поселке под Шатурой, матери у нее не было, а были отец и брат. Работали они на торфоразработке и были людьми сильно пьющими. В Шатуру ездили всего один раз, и Ванька запомнил страшного пьяного мужика в старом ватнике, курящего на крыльце дома. Мать тут же начала с ним скандалить, и отец, взяв Ваньку на руки, ждал мать за калиткой. Потом узнал – материн отец, его дед, болел туберкулезом. Мать всегда боялась от него заразиться и заболеть. Потому и сбежала из дома в пятнадцать лет. А ее брат, Ванькин дядька, сел за пьяную драку. В тюрьму к нему мать не ездила и посылок не отправляла – говорила, что зачеркнула ту жизнь навсегда.
Дед еще работал, но по утрам вставал уже тяжело – сначала спускал отекшие, в крупных синеватых «реках» вен ноги и долго сидел на кровати. Потом, кряхтя, брал полотенце, кидал его на плечо и шел умываться. Следом просыпалась бабка, глядела на часы и охала. Вскакивала она моментально, без промедления, и тут же бросалась на кухню – ставить чайник и делать деду яичницу. Всегда, во все времена, на завтрак дед ел одно и то же – яичницу из трех яиц, только глазунью, и три ломтя белого хлеба с маслом. И не дай бог, если яйцо растечется – тогда бабка получит по полной.
Требовательным или капризным дед не был – ему было все равно, что носить, на чем спать и из чего есть. А вот яичница была делом святым.
С работы он приходил в семь вечера. Выпивал стакан крепкого чая и тут же ложился, а через пару минут раздавался его мощный храп. Спал он от силы минут двадцать, вставал бодрым и веселым и тут же звал внука.
Ванька ждал, когда дед проснется и наконец начнется интересная жизнь.
В хорошую погоду ходили гулять по Арбату, по Самотеке, по Замоскворечью. Иногда забирались и дальше – пешком доходили до Крымского моста, а там рукой подать и до Парка культуры. В парке забирались в Нескучный, вглубь, туда, где уже не было лавочек, но попадались поваленные деревья или пеньки, и усаживались передохнуть. Бабка всегда собирала им с собой четыре бутерброда – два с докторской, два с российским. В парке покупали бутылку ситро и пировали.
Казалось, о Москве немосквич дед знает все. Бродили по дворянской Москве и по купеческой. По выходным – опять же, в хорошую погоду – ездили в Загорск, Звенигород, в Абрамцево или в Мураново. Бывали и в Ясной Поляне, у «Льва Николаевича», как говорил дед. Был он человеком читающим, русскую классику знал наизусть, «Клима Самгина» пересказывал почти дословно. Горького любил и жалел: время выпало ему – не дай бог! Ну и за все поплатился. Толстого любил, Куприна. Познал их уже в зрелости: в деревенской юности и в неспокойное время было, увы, не до чтения книг.
А вот бабка, вполне образованная, окончившая московскую гимназию, книг не читала: «Все врут, все неправда. Жизнь куда проще, – махала она рукой. – И все я про нее знаю. Зачем мне они?»
Бабка читала журналы «Здоровье», «Работницу» и толстую, засаленную и замызганную книгу «Домоводство».
В их прогулках бабка участия не принимала. Во-первых, больные колени. А во-вторых, хоть без вас отдохну!
Весной, как только подсыхало, они ехали в лес: брали с собой бутерброды и молоко в бутылке. Побродив по лесу, присаживались передохнуть – и начиналась трапеза. И ничего вкуснее этих скромных бутербродов с докторской колбасой и молока из бутылки с серебристой крышечкой из жесткой фольги Иван никогда не ел.
Дед, человек деревенский, конечно же, был и страстным, заядлым грибником. Уже в конце августа начиналось его жгучее нетерпение. С антресолей доставалась большая корзина из ивовых прутьев, потемневшая от времени, кое-где чиненная, перевязанная лыком, но все еще крепкая. У Ваньки была своя корзинка – точнее, бабкина. Маленькая и почти плоская – клубничная. Бабка укладывала в нее ягоды для варенья, чтобы не помялись. Точился перочинный ножик с кожаной, вытертой до блеска ручкой. С тех же антресолей доставались высокие черные резиновые сапоги и старый облезлый ватник. К ватнику прилагалась кепчонка с кривым от времени козырьком.
Бабка, оглядывая деда в «грибной» обмундировке, криво усмехалась:
– Хорош! Смотри, чтобы в отделение не забрали. Ну чистый зэка! Как вчера возвратился.
Дед, находясь в предвкушении, счастливый и довольный, добродушно махал рукой – дескать, отстань.
Иван обожал эти грибные вылазки. Выезжали они ранним утром, примерно в полшестого. Как правило, было еще прохладно и даже зябко, порой покрапывал дождь – начиналась затяжная подмосковная осень. В электричке Ванька, конечно же, засыпал. Да и дед, кажется, подремывал. Но станцию ни разу не пропустил. Были у деда свои места – личные, «намоленные и нахоженные».
Выходили на перроне, и дед, закидывая голову к синему сентябрьскому холодному небу, счастливо вздыхал и улыбался. В лесу шли параллельно, чтобы внучок не потерялся. Заглядевшись на интересную корягу или какую-то лесную невидаль, Ванька иногда отставал. Дед это чуял – тут же замирал, прислушивался и громко аукал. В лесу пели птицы, и он узнавал всех по голосам: иволга, пеночка, дрозд.
К шести годам Иван прилично разбирался в грибах – спасибо деду. Понимал, под каким деревом и в какой траве может притаиться красноголовик или беляк. Где брать опята, а где черные грузди – ох, до чего хорошо бабка их солила!
Находившись, присаживались на отдых – как правило, на кочку или поваленное дерево на краю поля. В полдень становилось жарко, и Ванька скидывал куртку, а дед свой древний любимый тяжелый ватник. Разморившись, Иван засыпал – дед подкладывал ему под голову его куртку и прикрывал ватником, который – Ванька слышал сквозь сон – пах грибами, лесом и дедовскими папиросами. И это было счастье – засыпать с этим самым запахом.