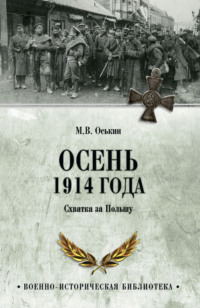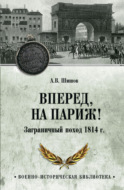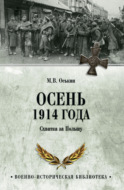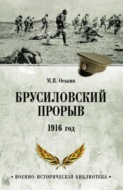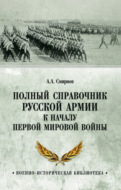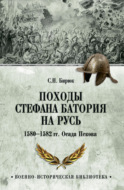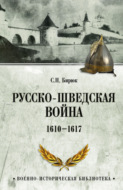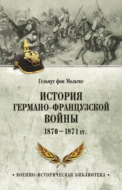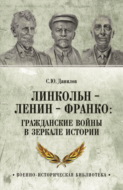Kitobni o'qish: «Осень 1914 года. Схватка за Польшу»
© Оськин М.В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Введение
На протяжении ряда столетий Польша – Речь Посполитая – являлась своеобразными дверями между Западом и Востоком, западными дверями через мост восточнославянской территории. С одной стороны – мощные европейские государства, с которыми Польша непрестанно воевала, одновременно стремясь влиться в семью западноевропейских стран. С другой стороны – неостанавливающийся поток восточных народов, плескавшийся в ворота европейской цивилизации через могущественную Османскую империю. И здесь же до поры до времени в глубоких снегах таилась непознанная страна московитов – Россия, наследница евразийской Монгольской державы.
Отношения Польши и России нельзя назвать дружественными. Этому мешала и разница религий, почитавших друг друга еретическими, и борьба за возможность быть бастионом Европы на востоке маленького континентального пространства в преддверии необъятной Азии, и схватка за влияние на народы, некогда входившие в состав Великого княжества Литовского. Монголо-татарское нашествие отделило Россию от Европы, параллельно с этим передав Белоруссию и Украину под власть языческой Литвы, что вскоре стала частью католической Польши. И как ни крути, но факт остается фактом: Речь Посполитая в основе своей являлась государством католических панов и православных хлопов – одно только это закладывало краеугольный камень противостояния в русско-польских отношениях.
До поры до времени попытки России выйти из тени успешно отражались поляками. Поражение Ивана Грозного в Ливонской войне стало самым тяжелым, создав предпосылки для будущей Смуты. В этой борьбе Польша обычно выступала вместе со Швецией: обе эти великие региональные державы, если пользоваться современной терминологией, даже соперничая друг с другом и опустошая территорию друг друга, не забывали о России. Начало XVII века стало пиком польского влияния в Московии. Поляки владычествовали в Москве, возводили на русский трон своих ставленников, откалывали от России в свою пользу громадные куски земли, просто грабили земли соперника. Распрей не замедлили воспользоваться шведы, окончательно отрезавшие Россию от Балтийского моря.
Весь XVII век раздиравшаяся внутренними распрями своеобразная польская монархическая республика растрачивала свои силы на всех направлениях. Это и 15‐летняя война со Швецией, и 20‐летняя война с Россией из-за Украины, и никогда не прекращавшаяся война с Турцией. Разгром гигантской турецкой армии под Веной в 1683 году, в котором ключевую роль сыграла польская армия короля Яна Собеского, надломил страну. Теперь уже соседи возводили на польский трон своих ставленников, а на Востоке поднималась могучая православная империя – наследница Византии, – претендовавшая ни много ни мало уже на роль великой, а не региональной державы.
Российская империя Петра I Великого сумела занять этот постамент. Разгромленная Швеция была выбита из ряда региональных держав и, несмотря на ряд военных конфликтов с Россией в XVIII веке, так и не восстановила своего статуса. Польша же все больше и больше раздиралась на куски в борьбе аристократических кланов, и 1‐й раздел Польши Австрией, Россией и Пруссией в 1772 году стал закономерным итогом развития монархической республики, или республиканской монархии – без особой разницы. Последующие разделы Польши соседями в 1793 и 1795 годах уничтожили ее как независимую страну. Тем самым австрийцы и пруссаки существенно «округлили» свои владения, а русские, присоединив к православной монархии все православные восточноевропейские народы, избавились от призрака повторения Смуты начала XVII века.
Великая французская революция и Наполеоновские войны стали для поляков надеждой на восстановление государственности. Правда, нельзя забывать, что польская шляхта претендовала на независимую Польшу не в пределах собственно польских земель, населенных поляками, а на все наследство некогда могучей Речи Посполитой – то есть и на Восточную Пруссию, и на Белоруссию, и на Украину, и на Галицию. Поляки доблестно сражались во французских армиях на всех фронтах, но это не помогло. Франция была отброшена в свои границы, королевская власть восстановлена, Наполеон – сослан на остров Св. Елены, а Польша – вновь поделена между Австрией, Россией и Пруссией. При этом большая часть собственно польской территории теперь досталась Российской империи.
Польские восстания XIX века, добившиеся лишь ужесточения русского режима в Польше, в итоге вылились в насильственную русификацию Привислинского края, как официально стала именоваться Польша при императоре Александре III. Подобная же политика германизации, только с большим успехом, проводилась немцами, а вот в Австро-Венгрии польская шляхта обладала рядом привилегий. Неудивительно, что в случае Большой Европейской войны между державами Антанты и Тройственного союза, когда Россия оказывалась «по одну сторону баррикад», а Германия и Австро-Венгрия – по другую, именно польские земли становились наиболее вероятным пространством ведения военных действий.
Редко, когда все планы сбываются в той степени и последовательности, что задумываются задолго до начала их реализации. Предположение, высказываемое накануне Первой мировой войны Генеральными штабами великих держав Европы о скоротечности предстоящего конфликта, переносило тяжесть оперативно-стратегического планирования на первые операции в приграничной полосе. Конечно, никто не желает, чтобы пожар войны затронул его собственную территорию и население. Можно допустить, что какие-то районы подвергнутся нашествию неприятеля, однако если армия собирается наступать, то это нашествие представляется непродолжительным, а его последствия – незначительными.
Русская Польша, как то рисовалось в русском Генеральном штабе, вообще не должна была стать ареной предстоящих боевых действий против Германии и Австро-Венгрии. Русское военно-политическое руководство было полно самых искренних намерений немедленно же по окончании сосредоточения действующей армии перенести негатив такого явления, как война, на территорию противника. В самых смелых мечтах рисовалось, что армии Северо-Западного фронта решительным вторжением выбьют противника из Восточной Пруссии и изготовятся к рывку на Берлин по течению Нижней Вислы. В самом крайнем случае, как допускали в русской Ставке, часть ударной группировки может оказаться сосредоточенной в Варшаве, чтобы наступать в Познань и Силезию, прямо к Одеру. В то же время Юго-Западный фронт обязывался, разгромив австро-венгров в генеральном сражении у Львова, занять Галицию, подойти к Карпатам и создать условия для выхода на венгерскую равнину.
Иными словами, согласно русским расчетам, пострадать должны были польские земли Германской и Двуединой монархий. Противник же планировал войну с точностью до наоборот – перенос боевых действий в русские пределы, в том числе и в Центральную Польшу. Следовательно, чьи бы планы ни сбылись в реальности, польская территория вне принадлежности к тому или иному государству становилась ареной ожесточенной схватки многомиллионных армий.
Все необходимые предпосылки для осуществления данных замыслов в России были. Недооцененным оказался один фактор – противник. Переоцененным – полководческие способности высших военачальников Российской империи. В результате спустя месяц войны русская Ставка осознала, что если еще Галиция более-менее успешно занимается армиями Юго-Западного фронта, после ряда тяжелых кризисов сумевшими нанести поражение австро-венгерским войскам, то армии Северо-Западного фронта оказались отброшенными из Восточной Пруссии, а немцы уже изготовились по России.
Перенеся действия в Польшу, на левобережье течения Средней Вислы, австро-германцы наступлением по чужой территории обезопасили свою собственную от неприятельского (в данном случае русского) нашествия. Обладая маневренным превосходством и преимуществом качества командования и вооружения, всю осень немцы успешно сдерживали превосходящие по численности русские армии в пределах русской Польши. Русская Ставка, несмотря на глобальный план удара по Берлину, так и не смогла преодолеть этого пространства. К декабрю же, когда германское командование на Востоке получило подкрепление из Франции, а в России обозначился кризис вооружений, сделать это вовсе не представлялось возможным. Все еще надеясь на чудо, русские попробовали наступать в Восточной Пруссии, и дело закончилось поражением в Августовских лесах. После 1‐й Праснышской операции русский Северо-Западный фронт застыл в пассивности и бездействии до лета 1915 года, когда немцы перенесли главный удар на Восточный фронт и перешли в решительное наступление.
В течение всей Первой мировой войны поляки показали себя положительно со всех сторон. Во-первых, они проявили лояльность своим режимам. Австрийские, немецкие, русские поляки, как правило, честно сражались в войсках тех стран, чье подданство они имели. Австрийцы (успешнее) и русские (менее успешно) пробовали создавать национальные польские формирования, которые также принимали участие в войне. Во-вторых, когда Россия стала стремительно разваливаться под ударами великой русской революции, а поражение Центральных держав стало неминуемым, все поляки единодушно объединились в стремлении образования независимого государства. Разумеется, отдельные группировки боролись между собой за власть, но генеральная линия не менялась – полный суверенитет, который к тому же гарантировался победившей Антантой. Ход и исход советско-польской войны 1920 года является подтверждением тому. Этими сражениями фактически и закончилась Первая мировая война для Польши.
Первые же боевые действия на территории Польши произошли на второй месяц войны – начиная с конца августа 1914 года. Целый год, до осени 1915 года, противоборствующие стороны вели борьбу за Польшу. В конечном счете австро-германцы сумели отбить польские провинции у русских, ненадолго объединив их под своей оккупацией в ожидании конца войны, но тем самым положив грядущее воссоединение польских земель и обретение ими независимости по итогам Первой мировой войны.
Глава 1
Варшавско-Ивангородская наступательная операция
Подготовка операции
Первые операции кампании 1914 года на Восточном фронте – Восточно-Прусская наступательная и Галицийская битва – закончились как бы, условно говоря, «вничью». С одной стороны, своим безоглядным наступлением на запад вглубь Германии русские все-таки вынудили германское верховное командование растеряться и ослабить ударную группировку во Франции. Итогом стал проигрыш немцами Битвы на Марне, а с ней и блицкрига, что в наиболее вероятной перспективе вело и к проигрышу всей войны. С другой стороны, что касается непосредственно Восточного фронта, германцы сумели вытеснить русские армии Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии, причем 2‐я русская армия А.В. Самсонова оказалась большей частью уничтожена под Танненбергом.
В германский плен всего за месяц упорных боев угодило 150 тыс. русских генералов, офицеров и солдат. Быть может, впервые в отечественной военной истории вследствие неумения собственного командования и возросшей огневой мощи техники в плену оказалась такая масса людей. При этом – при примерном исходном равенстве сторон в силах. В ходе Восточно-Прусской операции немцы, потеряв не более 70 тыс. чел., вывели из строя убитыми, ранеными и пленными до 250 тыс. русских солдат и офицеров. Соотношение – два к семи. Германская военная машина, большая часть которой в августе 1914 года была занята во Франции, отчетливо продемонстрировала свою выдающуюся боевую мощь, свою превосходную (в сравнении со всеми остальными) подготовку к современной войне и просто блестящее качество командного состава.
Таким образом, уже через месяц после начала войны в Российской империи стало ясно, что быстрой победы в войне не получилось, что нужно готовиться к тяжелым сражениям в ближайшей перспективе, что немцы оказались столь сложным противником, что против него предстоит действовать заведомо превосходными силами. В создавшейся обстановке Ставка Верховного командования во главе с дядей императора Николая II – великим князем Николаем Николаевичем – спешила возможно прочно закрыть все образовавшиеся бреши на Северо-Западном фронте.
Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы в русском, теперь уже оборонительном, фронте на германской границе образовались такие «дыры», что дальнейшее удержание обороны стало бы невозможным. В таком случае германское командование на Востоке – командарм-8 П. фон Бенкендорф унд Гинденбург и его начальник штаба Э. Людендорф – получило бы возможность нанести удар в тыл всей русской Польше – по важнейшему железнодорожному узлу Седлец.
В целях остановки вероятного наступления противника, который к 3 сентября 1914 года вытеснил русские армии Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии, Ставкой были предприняты следующие мероприятия:
– был сменен главнокомандующий армиями фронта – Я.Г. Жилинского заменил отличившийся в Галицийской битве взятием Львова командарм-3 Н.В. Рузский. Среди офицеров считали, что «с вступлением Рузского в командование армиями прусского фронта наши действия там сразу приняли более идейный характер (стратегическая сторона). Жилинский этого не сумел сделать: его единственное стремление заключалось в том, чтобы армии не вырвались из его управления, поэтому он иногда душил частную инициативу и забывал все остальные»1;
– на южном берегу реки Нарев воссоздавалась разгромленная и наполовину уничтоженная немцами русская 2‐я армия, командование над которой принял комкор-2 С.М. Шейдеман;
– в разбитую 1‐ю армию П.К. Ренненкампфа потекли новые дивизии второго стратегического эшелона, подходившие из глубины страны;
– в промежутке между 1‐й и 2‐й армиями разворачивалась новая, уже 10‐я по счету, армия, командование над которой принял В.Е. Флуг (к началу войны – помощник погибшего в Восточной Пруссии командарма-2 А.В. Самсонова в Туркестане).
В итоге к десятым числам сентября русские могли полагать свое положение на Северо-Западном фронте достаточно стабильным: против сильной 8‐й германской армии (восемь полевых армейских корпусов, две кавалерийские дивизии и несколько отдельных дивизий ландвера и крепостных гарнизонов) стояли сразу три русские армии (шестнадцать армейских корпусов плюс многочисленная конница). По крайней мере, теперь угроза германского броска на Седлец (в тыл всей русской Польше) была надежно ликвидирована. Следовательно, теперь нельзя было опасаться, что австро-германцы сумеют провести глубокую операцию на отсечение всего «Польского балкона» с последующим уничтожением здесь большей части русской действующей армии.
Нельзя не отметить, что германское командование на Востоке не располагало необходимыми для окончательного разгрома русских силами и средствами. Львиная доля германских войск все еще находилась во Франции, где 10 сентября немцы начали отступление от Парижа после поражения в Битве на Марне. В сложившейся обстановке Гинденбург и Людендорф пока еще могли располагать лишь теми войсками, что в данный момент находились в их распоряжении, – более девяти корпусов (в том числе сводные дивизии из гарнизонов крепостей и ландверный корпус Войрша) и две кавалерийские дивизии.
С другой стороны, в Галиции в ходе Галицийской битвы русские армии Юго-Западного фронта нанесли тяжелое поражение австро-венгерским войскам. Потеряв 230 тыс. чел., русские вывели из строя до 400 тыс. австрийцев. Если в сравнении с германской военной машиной русская оказалась ниже по своему качеству и подготовке, то австрийская была еще хуже русской военной машины. Однако австрийцы сумели более-менее организованно отступить, прикрыть свой отход сильными заслонами и навести порядок в потерпевших поражение войсках.
В ходе бестолково организованного преследования победоносные армии Юго-Западного фронта на ряде участков форсировали реку Сан, отбросив противника к Краковскому крепостному району, попутно обложив сильнейшую австрийскую крепость Перемышль, и к середине сентября медленно выдвигались вслед за отступавшим в Карпаты противником, понемногу подтягивая и устраивая свои тылы. Главнокомандование Юго-Западного фронта (главнокомандующий армиями фронта (главкоюз) Н.И. Иванов и начальник штаба фронта М.В. Алексеев), следуя указаниям Ставки, приковали большую часть войск к Перемышлю, впредь до устроения тылов армий фронта. Одна лишь 9‐я армия П.А. Лечицкого двигалась к Кракову, куда откатывалась главная неприятельская группировка.
В создавшейся обстановке угрозы разгрома вооруженных сил Двуединой монархии, пересечения русскими Карпат с последующим выходом на венгерскую равнину и вероятностью выхода Австро-Венгрии из войны австрийский главнокомандующий Ф. Конрад фон Гётцендорф (номинальный главком – эрцгерцог Фридрих) обратился к немцам с просьбой об оказании немедленной помощи. Дело в том, что австрийцы, в отличие от германцев, выполнили свою долю предвоенных обязательств: сумели притянуть на себя большую часть русских вооруженных сил в Галицийской битве (до 70 % войск первого и части второго эшелонов) до того момента, как немцы должны были вывести из войны Францию. Однако германцам так и не удалось нанести французам решительного поражения: чрезвычайно рискованный «план Шлиффена», воплощенный в жизнь в отвратительном исполнении начальника Большого генерального штаба Х. фон Мольтке-Младшего и его сотрудников, рухнул.
К 12 сентября Битва на Марне была окончательно проиграна и на парижском направлении немцы перешли к обороне. Но и более того: после разгрома 2‐й русской армии под Танненбергом германцы не выполнили и второго обязательства перед своим австрийским союзником – немедленный удар на Седлец, что должно было остановить прорыв русских в Галиции и помочь австрийцам благополучно отступить за реку Сан. Генерал Гинденбург, следуя указаниям кайзера Вильгельма II, предпочел сначала очистить Восточную Пруссию, но за это время австрийцы уже были разбиты и покатились на запад, к Карпатам. И только теперь, когда над Австро-Венгрией нависла угроза разгрома, германцы, вовсе не желавшие остаться без союзников, решились на помощь разваливающейся под русскими ударами австрийской военной машине. Притом отступление австрийцев подставляло под следующий русский удар богатейшую германскую провинцию Силезию, так что немцы не забывали и своего собственного добра: говорить здесь о бескорыстии не приходится ни в коем случае.
Первоначально командование 8‐й германской армии вроде как намеревалось произвести удар на Седлец, выполняя предвоенные договоренности с Австро-Венгрией. Однако 30 августа начальник австрийского Полевого генерального штаба Ф. Конрад фон Гётцендорф сообщил в германскую штаб-квартиру, что любая немецкая помощь, кроме переброски резервов через Краков, навстречу наступающему русскому Юго-Западному фронту, будет запоздалой. Через два дня Конрад повторил этот тезис в срочной телеграмме на имя своего германского коллеги Х. фон Мольтке-Младшего, а вечером 2 сентября австро-венгерский главнокомандующий эрцгерцог Фридрих переслал данное требование кайзеру Вильгельму II.
Выполняя приказ своей ставки, начальник штаба 8‐й германской армии Э. Людендорф распорядился отправить на помощь союзнику на линию Средней Вислы львиную долю войск 8‐й армии, а не два корпуса, которые просил Конрад. Людендорф задумал уже не просто подпорку для откатывавшейся к Карпатам австро-венгерской вооруженной силы, а новую операцию, долженствовавшую остановить продвижение русских на запад. В итоге 4 сентября германцы приступили к перегруппировке части своих сил на Востоке в Верхнюю Силезию и под Краков.
Между тем после победы в Галиции и укрепления оборонительных рубежей напротив Восточной Пруссии русское Верховное командование (Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, начальник штаба Н.Н. Янушкевич, генерал-квартирмейстер и фактический руководитель русской стратегии Ю.Н. Данилов) решает продолжить наступление. Для принятия именно такого решения существовало несколько предпосылок.
Во-первых, русская сторона все еще надеялась победоносно закончить войну в короткие сроки: если перед войной отводимое для достижения победы время определялось в шесть – восемь месяцев, то теперь, возможно, этим сроком становился год, но никак не более. Идеи блицкрига даже после поражения в Восточной Пруссии продолжали жить в оперативно-стратегической мысли русского Верховного командования, равно как и подавляющего большинства высокопоставленных военных и политических деятелей Российской империи. Катастрофа в Восточной Пруссии (даже не в смысле потерь, а в том отношении, что русские перволинейные дивизии не смогли разгромить численно уступавшего им противника, половина войск которого являлась запасными резервистами) была расценена лишь как неудача. Вдобавок, разумеется, следовало использовать победу в Галиции по максимуму, тем более, что этим было возможно компенсировать поражение от немцев.
Во-вторых, на возобновлении русского наступления на всех направлениях настаивали англо-французы. Союзники не могли быть уверены в том, что немцы надежно остановлены на Марне, а германское движение на север, к Ла-Маншу, убеждало англо-французов в мысли, что еще ничего не решено. Русские уже выполнили свой долг, притянув на Восточный фронт два немецких армейских корпуса в критический момент Битвы на Марне (и, следовательно, выполнили свою главную задачу, поставленную перед Российской империей межсоюзническими договоренностями), но союзникам этого казалось недостаточным.
Долг русских, по мысли англо-французов, состоял в том, чтобы окончательно сбить германские удары на Западном фронте. Русский посол в Париже А.П. Извольский (до 1910 года – министр иностранных дел) 4 сентября докладывал: «Роли союзных французской и русской армий по отношению к Германии сейчас определяются следующим образом: французы наступают, имея против себя пять шестых германских сил, а мы, как явствует из последних официальных телеграмм, остановились перед одной шестой этих сил. Объясняется это, конечно, тем, что мы имеем дело с двумя противниками, из коих Австрия выставила все, что имела. Полное поражение, нанесенное нами Австрии, приветствуется здесь самым восторженным образом… но как в публике, так и в военных кругах убеждены, что Россия достаточно могущественна, чтобы справиться с одной шестой германских сил, независимо от операции против Австрии. Для этого требуется полное напряжение наших сил против Германии именно в настоящий первый период войны. Между тем как будто выясняется, что мы не выставили против Германии всех этих сил, которыми мы можем располагать при сложившихся благоприятных обстоятельствах – нейтралитете Румынии и Турции и союзе с Японией…»
К сожалению, нельзя не признать, что претензии союзников к русской стороне являлись вполне оправданными. Действительно, на Востоке к началу сентября 1914 года со стороны немцев действовало всего лишь около 20 условных дивизий, считая и кавалерию, и ландвер, и крепостные гарнизоны. В то же время на Западе находилось 32 армейских корпуса (в том числе 11 резервных), до полутора десятков ландверных дивизий и четыре кавалерийских корпуса. Так что, в оценке соотношения сил и средств Германии на фронтах войны, французы, если и преувеличили, то ненамного. Неблагоприятное же для русских сложившееся к началу осени положение – результат первых операций, а именно – Восточно-Прусской наступательной операции.
В ходе Восточно-Прусской наступательной операции противники не имели решающего перевеса друг над другом. Однако русские все же превосходили неприятеля в количестве живой силы (особенно в кавалерии) и качестве войск (восемь десятых – перволинейные войска). В свою очередь, немцы еще не имели общего превосходства в количестве артиллерии, а преимущество в тяжелых орудий вполне нивелировалось высокоманевренным характером первых сражений и отсталой тактикой германских артиллеристов (весь первый год войны немцы фактически не умели стрелять с закрытых позиций, пользуясь дальнобойными свойствами тяжелых гаубиц). Другое дело, что германское командование притянуло в полевые части крепостные пушки, что придало устойчивость германской обороне, а русское командование не догадалось даже своевременно перебросить крепостные орудия крепостей Гродно и Ковно под Летцен, чтобы разом выдернуть эту занозу. Опять-таки 20‐й германский корпус вместе с ландвером успешно сдерживал в приграничных боях три русских армейских корпуса 2‐й армии (23, 13 и 15‐й), но так кто же заставлял командарма-2 наступать в лоб на тяжелую артиллерию, а также вовсе не использовать кавалерию (все-таки три кавалерийские дивизии)?
Исключительно один-единственный фактор – качество командования – не позволил русским раздавить 8‐ю германскую армию прикрытия и уже в начале сентября приступить к борьбе на Висле. Русское оперативно-стратегическое планирование, при всех своих недостатках бывшее, впрочем, неплохим, было вовсе сведено на нет уже в ходе боевых действий теми людьми, что задолго до войны готовились к занятию своих должностей. Кроме, правда, ключевой фигуры – генерала Самсонова, предназначавшегося по расписанию 1912 года на Юго-Западный фронт и не присутствовавшего на последних предвоенных совещаниях и военно-стратегических играх. В то же время французы, допустившие все возможные ошибки в своем плане войны, в конечном счете сумели остановить врага на ближних подступах к Парижу, пусть и ценой излишних потерь и напрасной уступки лишней территории.
Пожелания союзников совпадали с замыслами русского Верховного командования относительно дальнейших действий. Только теперь русские должны были наступать не частью сил (скажем, армиями Юго-Западного фронта), а непременно всеми войсками действующей армии, и прежде всего – против Германии. После того, как во Францию было сообщено о новых планах русской стороны, французский министр иностранных дел Т. Делькассе телеграфировал: «Французское правительство узнало с величайшим удовлетворением о проекте его высочества великого князя Николая, который, не останавливаясь перед препятствиями, решил после поражения Австро-Венгрии, наступать на Берлин со всеми силами, какие можно собрать». Таким образом, русское командование не собиралось отказываться от похода на Берлин, чтобы ослабить германский напор во Франции. Данная позиция встретила полное одобрение императора Николая II.
Еще один существенный нюанс планирования нового русского вторжения в Германию в самые короткие сроки заключался в том, что Ставка получила ложную информацию о предполагаемом усилении германской группировки во Франции. В таком случае, конечно, немцы могли еще раз попытать счастья ударом на Париж. И чтобы не допустить падения Франции, русские должны были решительно двигаться вперед. Как ни странно, эта информация была предоставлена все тем же Извольским. Ю.Н. Данилов впоследствии писал: «Телеграммами от 21 и 29 сентября [8 и 16 сентября по старому стилю] наш посол в Париже сообщал, что германцы подвозят на свой правый фланг значительные подкрепления и что в общем они имеют перевес над своими противниками по крайней мере в 250 тыс. человек. Армия их к тому же являлась снабженной многочисленной тяжелой артиллерией. По сведениям А.П. Извольского, у немцев к 10–15 октября заканчивают свое формирование до 10 новых корпусов, и тогда их превосходство в силах, говорил наш посол в Париже, может быть доведено до полумиллиона людей!» Конечно, такие сведения не могли быть правдивыми, и далее Данилов как бы оправдывается, что русская сторона все равно стала выполнять пожелания союзников, невзирая на заведомо неверную информацию: «Сведения А.П. Извольского о количестве новых германских формирований и, главное, о сроках их готовности не вполне сходились с данными Ставки и считались нами явно преувеличенными. Все же приходилось учитывать настроения Парижа и торопиться с оказанием новой помощи нашим западным союзникам»2.
В ходе боев в Восточной Пруссии и Галиции русские фронты еще больше разделили свои наступательные усилия по расходящимся операционным направлениям. Армии Северо-Западного фронта, откатившись за естественные рубежи рек Немана и Нарева, никак не могли решиться перейти в новое наступление: Танненберг парализовал наступательную инициативу в умах русских военачальников. Не сумев вырвать победу равными силами в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, русские опасались наступать и имея чуть ли не двойное превосходство в численности. В то же время резервы Ставки были переброшены на Юго-Западный фронт: 9‐я армия, сосредоточиваемая в середине августа под Варшавой для наступления в Германию, была отправлена на северный фас Юго-Западного фронта и приняла участие в Галицийской битве, облегчив переход 4‐й и 5‐й армий в контрнаступление 26 августа.
Австро-германцы же, отбиваясь в Галиции и вытесняя русских из Восточной Пруссии, также не оставили без внимания центр наметившегося в ходе первых операций Восточного фронта. Отход австрийцев вглубь Австро-Венгрии после поражения в Галиции совершался в общем направлении на северо-запад, главной массой к Кракову. Вслед за ними медленно продвигались и русские войска. Отступление противника сопровождалось выжиганием местности: «Австрийцы неистовствуют: жгут деревни без всякой надобности, угоняют лошадей, скот. Жители разорены совершенно. Необходимо им серьезно помочь, иначе – голод»3.
В стратегическом начертании противники в августе – начале сентября 1914 года вели операции на флангах фронта – в Восточной Пруссии и Галиции. Теперь взоры обеих сторон обращались в центр – западный (левый) берег Вислы в ее среднем течении, представлявший из себя идеальный плацдарм для вторжения в Центральные державы. Заодно Средняя Висла являлась и идеальным полем для генерального сражения главной массой сил и средств, буде такая мысль о генеральном сражении возникла бы у полководцев противоборствовавших сторон.
И такая мысль возникла. Сначала – у Э. Людендорфа, предполагавшего разорвать русский фронт на две части мощным ударом в стык между русскими фронтами. Затем – у австрийцев и русских. Именно для этого Ф. Конрад фон Гётцендорф отводил свою главную группировку к Кракову, а Гинденбург уже организовал перегруппировку германцев от линии Мазурских озер в Верхнюю Силезию. А затем и в русской Ставке, где великий князь Николай Николаевич и его сотрудники оценивали замысел решительного вторжения в Германию: раз не получилось в Восточной Пруссии, следовало вернуться к старым планам наступления в Познань и Силезию на берлинском направлении.