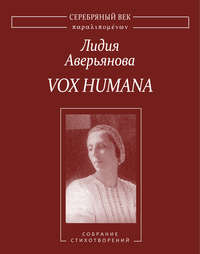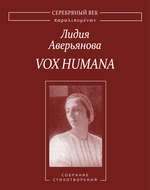Kitobni o'qish: «Vox Humana. Собрание стихотворений»
Shrift:

Из книги VOX HUMANA

1
Угоден богу каждый спелый колос.
Весь мир – во мне, но я – одна в миру.
И я люблю здесь только лирный голос
И строгую органную игру.
Живу. Душа предчувствием не сжата.
Спокоен взгляд, не устремленный вниз,
И путь мне ясен, время мой вожатый,
Per aspera ad astra – мой девиз.
1921
2
По имени и другом назови.
Я – как и ты – в миру благословенна:
Не манит рай и не страшит геенна
Того, чья жизнь проходит без любви.
Пусть, сквозь двойное зимнее стекло,
Так глух и нежен дальний звон к вечерне —
Ни брачной ризы, ни венца из терний
Нас никогда желанье не влекло.
Земным не опаленные огнем
(Раздумья – много, счастья – ни обола),
К семи ступеням божьего престола
Мы нищими, но мудрыми придем.
1922
3
Щит от мира, колыбель поэта,
Родина пилигримов любви.
Одиночество! Ты – хлеб ответа
На молитвы жадные мои.
День и ночь молилась о разлуке:
Весть была, что дорог мне жених…
Так устали складываться руки…
Даже лира тяжела для них.
Разве жизнь – не легче и безбольней.
И сандалий не щадит песок? —
Словно лестница на колокольню.
Путь мой темен, шаток – и высок.
1923
4
Матерь Божья Часу безответна:
Тихо судьбы шьет ее игла…
Вот, на землю тенью неприметной
Молодая жизнь моя легла.
… Может, я затем и приходила
В мир: учуять радость и покой,
И сердца – душистые кадила —
Легкою раскачивать рукой.
1923
5
Неотвратимо, неизбежно.
От всех распахнутых дверей
Меня уводит ветер снежный
Навстречу гибели моей.
Умы – в бреду сердца – лукавы.
Извечно спутаны пути.
Ни мира, ни любви, ни славы
Мне в целой жизни не найти.
Сквозь годы ужаса и плена
Провижу, смутно – жребий мой…
– О, господи, давно колена
Я не склоняла пред тобой!
1924
6
Снежный ветер запевает в ставни,
Медный звон колышет ворота…
Друг старинный, недруг мой недавний,
Вот – я здесь, печальна и чиста.
Ни себя не знала, ни любови,
Но от сердца я приемлю новь,
И чужда тяжелой скифской крови
Легкая как марево любовь.
Жизнь – проста, и слово неизменно:
Все пути приводят к одному…
Мне не снилось стать своей и пленной
В этом смертью раненном дому.
1924
7
Верно, сердцем уродилась суше
И суровей множества людей:
Оттого-то бог и дал мне в души
Лучшего из черных лебедей.
И душа моя, сквозь вихрь и пламя,
Сквозь напевный колокол в веках —
Как большое траурное знамя
Бьется бешено в твоих руках.
1924
8
Что лирика? Быть может, сотый
Ее оценит и поймет:
Здесь сердца дрогнувшие соты
Хранят любви старинный мед.
Что слава? Первый между ними.
Ничтожный – как дитя в гробу
Из пыли медленно поднимет
Поэта хрупкую судьбу.
Что книга? Редким береженный
Ларец с прерывной нитью строк.
Последним служкою зажженной
Кадильницы душистый вздрог.
1924
<9>
Он сказал мне: «Видишь, ты чужая
Петербургской пламенной судьбе.
Бурным гневом медленно сгорая,
Этот город вспомнит о тебе».
И еще сказал он: «Накануне
Лучших лет училась ты любви,
И как только красный ветер дунет —
Разлетятся ангелы твои».
И закончил: «Маленькая, кто ты.
Чтобы за руку я взял, любя:
Посмотри, какою позолотой
Наша слава ляжет на тебя».
<1923>
<10>
Вставали дни, дряхлел и падал Рим,
Росли названья славы и свободы,
Но с византийским именем твоим
Связала я девические годы.
Всё глубже раны варварским мечом,
Но плещет имя крыльями покоя,
И хорошо войти в прохладный дом
От звона стрел, от пламенного зноя.
Легки, как лани, стрелки на часах,
Седеет прядь, журчат года глухие,
И медленно качается в веках
Дарохранительница – Византия.
<1923>
<11>
… И снова затворилась дверь
Твоей тоски, твоей свободы.
Терпенье, улицы и годы
Шагами медленными мерь…
Но не безумствуй, не кляни —
Когда-нибудь из темной дали
Придет и он, твоих сандалий
Достойный развязать ремни.
Начало 1920-х гг.
Вторая Москва
Товарищу, назвавшему себя АЛЕКСАНДРОМ ФОКИНЫМ на пути Ростов/Дон – Москва, 2 сентября 1924 года

Седьмое ноября
Червонным золотом горит Москва.
И – крылья алой лебединой стаи —
Знамена плещут и шуршат слова,
Всемирной новью пьяно зацветая.
Когда б он встать, когда б он видеть мог,
Едва раздвинув стены мавзолея,
Как с каждым годом неизбежней срок
Земным плодам, что он с любовью сеял.
Не призрак по Европе – плоть идет
Широкоплечей силой, злой и голой. —
Звени, звени сквозь вычурный фокстрот,
Ближайших лет простая Карманьола!
1924
Джон Рид
Хорошо в свинцовой колыбели
Отдыхать под Красною стеной:
Не пришлец ты был здесь на неделе.
А товарищ сильный и родной.
Полюбил наш бурный скифский берег
И в тифозном, медленном бреду
Ты уже, над картой двух Америк,
Смутно видел красную звезду.
Ничего, что мнем твои страницы,
В заскорузлых пальцах теребя:
В крепком сердце самой вещей птицы
Наша память пестует тебя.
Золотой ордою комсомолья
Снова повесть будет прочтена,
Как терзалась родовою болью
Десять дней огромная страна.
С этой книгой станут наши дети,
Обновленной верные земле,
Под тяжелой славою столетий —
Третьей стражей в мировом Кремле.
1924
Три узла
В память лучших, три узла тугие
Завяжи на нити золотой.
Вот какою стала ты, Россия:
Самой крепкой, стройной и простой.
Оглянись на путь большой и странный,
Ни одной не выпавший стране:
К воле плыл он, первенец желанный,
Стенька Разин в расписном челне.
И еще не отзвенело слово
И не стихла волжская вода,
Как мужицкой славе Пугачева
Поклонились в пояс города.
А недавний, разве он – не сын твой,
Тот, кто встал над омутом Москвы,
Кто тебе кровавую косынку
Повязал вкруг буйной головы.
Так греми же праведной Европе
Комсомольским хохотом в лицо:
Слишком трудно стаей ржавых копий
Пошатнуть кремлевское крыльцо.
1924
Моя страна
Что мне посох, если насмерть ранен
Бредом я, и песнь моя хмельна:
Ведь кругом от грани и до грани —
Алым маком зацвела страна.
Широки поля твои, Россия,
Колокольни тонкие остры —
И горят, горят в глаза сухие
Неуемным пламенем костры.
Ах, зови, звени, пылай – доколе
Не придет орда сыновних рук
Медный голос этих колоколен
Перелить в густой машинный стук? —
И пока любовь моя, скитаясь,
Горько чует верную тропу —
Стой, тихонько на ветру качаясь,
Лучший колос в мировом снопу.
1924
Спасские часы
Не глухое былье и не лобное место под теми.
Что когда-то певали – и божий нам славили страх.
Слушай, стоило жить, чтоб узнать наше бурное время,
Наше острое время на старых кремлевских часах.
Здесь у царских саней, надрываясь, скрипели полозья
И на башенный голос послушно вставала заря.
Но проходят года – и тяжелые зреют колосья
Сквозь суровые зимы, и весны, и дни Октября.
А Европа в петле, а Америка – в пытке, и гулко
По издерганным нервам ударил Московский набат. —
Да, желанною целью – за сетью кривых переулков —
Пилигримом свободы когда-нибудь станет Арбат.
Пять лучей не сочтем, как нагнется над миром комета,
Заметая обломки в костер, а часы на Кремле
Широко пропоют в наступившее красное лето
Колокольною песней торжественный полдень земле.
1924
Неровный ветер, смутный свет
Неровный ветер, смутный свет.
Знамен внезапное веселье —
И стойкий город на Неве
Качнулся красной колыбелью.
Тогда невиданной зарей
Над золотыми куполами, —
Москва, в тяжелый полдень твой
Вошло ликующее пламя.
И над тревогою Кремля,
Над мертвым сном Замоскворечья,
В просторы, в просеки, в поля
Мелькнул и канул вольный кречет.
Нам мнилось, пули счет сведут —
И пулями была расплата.
Горсть неприкрашенных минут
Рвалась столетьем циферблата…
Не голосом печальных книг
Расторгнутые трогать цепи:
Мы соты – солнечные дни —
На творческом досуге лепим.
Но поступь – тверже, глаз – острей.
И, за вожатыми словами.
Ступени медных Октябрей
Хранит размашистая память.
И город, пестовавший весть,
Еще хранит следы глухие,
Как билась судорожно здесь
В капкане времени Россия.
1925
Набат
Не раскольница в огненном стонет плену —
Красный ветер качает большую страну;
Красный ветер метет озаренную пыль, —
В самых дальних степях полыхает ковыль.
Нам дремучей любви не дано превозмочь.
Любо кинуться вместе в мохнатую ночь —
И летим, наклоняясь в скрипящем седле,
По изодранной, пламенной, гулкой земле.
Я не знаю, зачем, и не знаю, куда, —
Только слово «товарищ» мне хлеб и вода,
Только зарево пляшущим дразнит кольцом,
Только дым пеленает и нежит лицо.
Много верных встает в опаленной траве,
Но не каждый знамена крепил на Москве,
И не каждому выпал обугленный клад —
Слышать ленинский клич сквозь московский набат.
1925
Дата
Еще мы помним четкий взмах руки.
Вожатый голос с пламенной трибуны….
Вот почему заводские гудки —
В мохнатой мгле натянутые струны.
Еще горят заветные слова.
Как и при жизни лучшие горели.
Но леденеет медленно Нева
В своей большой гранитной колыбели:
Но мерной дробью не стучит станок.
И темногрудые котлы не дышат:
Так самый первый, самый горький срок.
На пленном Западе острее слышен.
И дата смерти, как тугая нить,
Связует страны с неостывшим делом:
Нам бьют в глаза московские огни,
Нам красный флаг захлестывает тело.
1925
Рабфаковцам
1
Оттого ты упорно заносишь науку в тетрадь.
Оттого ты сумел перелистывать плотные книги.
Что когда-то ходил города, словно ягоды, брать,
Что когда-то усталость в подхваченном плавилась крике.
Ты качался в седле, измеряя винтовкой страну,
Знаешь запах земли и смертельную речь пулемета,
А из жизни запомнил веселую повесть одну:
Как малиновый флаг был иглою рабочею сметан.
Ты стрелой отозвался на бурный Кремлевский набат,
Ты широкою памятью предан железным страницам. —
Если сорваны нити с гудящего вестью столба,
Эту весть разнесут красногрудые легкие птицы.
Будем только вперед неуклонно и просто смотреть:
Нарастают, звенят напоенные славою годы,
И тускнеет, дрожа, колокольная в воздухе медь,
И стальное весло рассекает зацветшую воду.
1925
Вторая Москва
Ах, тебя ль обратною дорогой
И путем окольным обойду! —
Всё растет привычная тревога
В колокольном, каменном саду.
Череде далеких новолуний
Слышен плеск уже окрепших крыл. —
Старый город, ты ли накануне
Башнями о боге говорил;
Во хмелю, блаженный и увечный,
Припадал к соборному кресту,
Золотым своим Замоскворечьем
В синюю тянулся пустоту,
Царской плетью хлестанный до крови,
Лишь веригами звенел в пыли…..
А теперь ты – в памяти и слове —
Красный угол дрогнувшей земли.
1925
«Москва кабацкая»
Звон колокольный, звон неровный
Над затуманенной Москвой
И шелест яблонь подмосковных
Сквозь муть, и посвист, и запой.
И, словно горький сад осенний,
Выветриваясь и гния,
Мне открывается, Есенин,
Москва тяжелая твоя:
Недобрый хмель с полынью смешан,
Тоска дорогою легла….
Но всё размеренней, всё реже
У нас звучат колокола:
Нас, младших, солнце в лоб целует
И ломится от нови клеть….
А ты – ты мог Москву Вторую
В Москве Кабацкой проглядеть!
Пусть сердце-ключ на дне стакана —
Ржавеет медленно, и пусть
Тебя из проруби стеклянной
Зовет утраченная Русь. —
Не вековая тронет слава
Страницы гибели твоей:
Так тающий, медвяный саван
С высоких облетит ветвей;
Так наглухо задунет память.
Проводит воронье, кружа,
С последними колоколами —
Есенина неверный шаг.
1925
Старая Москва
Едва вступив в широкий круг свободы.
Страна, как колос, солнцем налита,
Как жернова, перевернулись годы. —
Моя Москва, – и ты уже не та:
Пришла пора – недаром в полдень сирый
Добром народным наливалась клеть —
Рублем чеканным о прилавок мира
Раскатисто и буйно зазвенеть.
И вот крутая, новая дорога,
Ложась, сметает полусгнивший дом. —
Москва-часовня на ладони бога,
Москва, годам врученная на слом!
Ты помнишь день, когда, не чуя страха,
Мозолистая шарила рука —
За ситцевою лучшею рубахой
На самом дне большого сундука.
А там, вверху, с глухим и древним граем
Зловещее кружило воронье
И медь рвалась, отрывисто скликая,
Как на беду, на торжище свое.
Но празднично молчит Смоленский рынок.
Через плечо – гармошка на тесьме —
И мать крестила, на прощанье, сына,
Ходынским полем называя смерть.
1926
Что шуметь, о гибели жалея
Что шуметь, о гибели жалея,
Расточать надуманную грусть:
Нет, не смерть взяла от нас Сергея,
А его бревенчатая Русь:
Верно видел он сквозь ужас древний,
Те простые мерные года —
Как железом обрастет деревня,
Как взойдут на пашнях города.
Вправе мы не помнить об уроне,
Но стереть поднимется ль рука:
Он с другой Россией похоронен —
И земля да будет им легка.
1926
Ты опять со мной, моя Россия
Ты опять со мной, моя Россия.
Лучшей песней миру вручена. —
Но бедны слова мои сухие.
Широка московская страна.
Ах, по картам, в строках, меж строками
Мне ль учить такой большой урок. —
Вот опять перебирает память
Пряди русые дорог.
Ветер с Волги – мед и тополь вместе —
Словно гусли тронет эту грудь.
Колоколенка – слепая – крестит
Тенью пресеченный путь.
Оттого клонюсь к земле и к нови,
Что, под спудом, в теле у меня
Костромской и ярославской крови
Светлая цела струя.
Оттого и не зовет иное —
Только б дням шуршать степным огнем —
Что таким же, знаю, перегноем
Я войду в твой мудрый чернозем.
1926
Ларисса Рейснер
В дни былых, шальных разноголосиц.
В белом платье, в ливень пулевой —
Ты вела по Волге миноносец,
Чтоб знамена крепли над Москвой.
Ты глухие исходила страны,
Научилась многое уметь,
Чтоб крутым пескам Афганистана
В слитных строках вышло шелестеть.
Это сердце – словно с кручи горной
В воды времени упавший лот,
Это жизнь твоя мешком узорным
Перекинута через седло.
Женщина, поэт, товарищ стойкий,
Звонкий крик, летящая стрела —
Ты ли это на больничной койке
Так по будничному умерла.
Но, быть может, славе пред веками
Трижды лучше скинуть седока
В той Москве, чей первый новый камень
Опустила и твоя рука.
1926
2
Гул земли, лихой полет в седле.
Зарево, свинец, степные дали —
Первенцы кремлевских бурных лет.
Мы других учебников не знали,
Но грядущей жизни мирен шаг —
И товарищ, опустив ресницы,
Перелистывает не спеша
Тесным шрифтом взбухшие страницы.
Лишь на миг в положенный урок
Грусть ворвется, словно грач залетный,
Да порой одна из трудных строк
Обернется лентой пулеметной….
Каждый час на вузовских скамьях,
В мягкой тишине лабораторий,
Помним – пролетариев семья
Опыт наш когда-нибудь повторит.
Те, кто там, за братским рубежом,
Ждут всемирного, крутого сдвига —
Пусть страна, в которой мы живем,
Будет им большой настольной книгой.
И чтоб враг не тронул наобум
Славой скрепленного переплета,
Как перо, оттачивайте ум
Для великой будничной работы.
Скучной мерой станем мерить сон
(Дни – в труде, за тихой лампой – ночи).
Чтобы в книгу ленинских времен
Лег и наш прямой и твердый почерк.
1927
Весна
Уже на голос твой широкий,
Весна, на всплески влажных дней
Вразброд летят и бьются строки,
Как стая мартовских грачей.
Да, в этот год весна – иная:
Уже в листках календаря
Она пылает, залегая —
Страны десятая заря.
То слава по горбатым склонам
Сбегает в шелесте снегов,
И мир московским щедрым звоном,
Как чаша, налит до краев.
И на крутом ветру весеннем,
Едва опасный ломкий плен —
Дрожат церковные ступени
И хрупкий камень белых стен.
И тихо гаснет позолота.
Цветное сыплется стекло…
Шумит в размахе перелета
Москвы тяжелое крыло!
Шумит…. И бьется, отвечая.
В нас, отлученных навсегда,
Уже не сердце – мировая
Пятиконечная звезда.
1927
Парижская Коммуна
1
В день восемнадцатого марта
– О, незабвенный знак – Париж! —
Европы трепетная карта,
Каким ты именем горишь.
Нет, кровь стирается не скоро…
И, кровью щедро окроплен,
Вот он встает, бессмертный город,
В шуршанье ленинских знамен.
Но солнце славы всходит выше —
И здесь, над стынущей Невой.
Сквозь поступь лет всё шире слышен.
Париж, твой голос громовой.
Что ж, нам недаром о свободе
Певала с колыбели мать, —
И мы на улицу выходим
Парижским воздухом дышать.
Нам сладок час созревшей мести
За боль, отчаянье и плен….
И Сен-Жерменского предместья
Вам не поднять уже с колен.
Париж, Париж! За всё расплатой —
Москвы крылатая заря:
И вот мы мартовскую дату
Включаем в числа Октября.
1927
2
Мы поступь лет острее слышим,
Затем, что здесь, цельна, светла,
Нам буревая кровь Парижа
Сегодня к сердцу прилила.
Крыло свободы – знак нетленный —
Мы в наших буднях узнаем.
И вольный плеск далекой Сены
У нас под невским бьется льдом.
Дождей перебивая пряжу
Шурша по скатам влажных крыш.
Нам ветер мартовский расскажет
О лучших днях твоих, Париж —
О днях тревоги и отваги.
Когда, гремя щитами стен,
Скрестили улицы, как шпаги,
Сент-Антуан и Сен-Жермен.
Когда стремглав в рассвет кровавый
В смятеньи падала земля.
И смерть всходила величаво
На Елисейские поля…
Париж. Простое начертанье,
И, славой щедро окроплен,
Он нам раскрыт в живом преданьи
И в складках Ленинских знамен.
1927
3
Париж, высоким пламенем свободы
Был озарен последний вечер твой.
Плеснулась кровь твоя, сквозь дни и годы,
Знаменами над вздыбленной Москвой.
Зерно тревог, сквозь все сады Версаля
Ты проросло для жатвы Октября.
Завод гудит – рекой огня и стали
Встает она, парижская заря.
Мы красной нитью связаны с тобою.
Твоих костров нам нежен перегар —
И ровным, бодрым током Волховстроя
Нам в тихой лампе вспыхнул твой пожар.
Париж, ты бился, рваный и голодный,
Людской волной о стены стройных войск —
И вот уже времен ремень приводный
Несет толпу, раскатанную в лоск…
Навстречу дням – нестройным, трудным стаям,
От пуль и бурь не заслонив лица,
Мы с каждым годом вдумчивей читаем
Простую повесть крови и свинца.
<1927>
Стихи о Китае
1927
1
Сын свободы, лучший между ними.
Он в сердцах как знамя укреплен:
Красной тушью выведено имя
На седом пергаменте времен.
По складам о нем читают дети.
Старшие поют о нем всегда —
В армии, шагающей в столетья,
И в кварталах нищего труда.
Но в стране, взрастившей Сунь-Ят-Сена,
Тот – другой – народом не забыт:
Желтой охрой вписана измена
В книгу славы, гнева и борьбы.
Ничего, что в памяти Востока
Гулко бьется нанкинский расстрел,
Что в Хайларе, у стены широкой,
Двадцать три их взято на прицел:
Плещет знамя, нарастают годы,
Лук беды – натянут невзначай…
И звенит, звенит в руках свободы
Драгоценной чашею Китай.
1927
2
20 минут
Выходи на простор, на звенящий тревогою воздух,
И в шуршащих газетах заглавные строки читай —
И поет налету и качает вечерний наш роздых,
И горит над толпою крылатое имя – Китай.
Вот опять и опять льются в мартовский сумрак знакомый
По дрожащим антеннам те двадцать минут буревых —
И плывет без конца, мимо залитых светом райкомов,
Море красных платков по сплетенным бульварам Москвы.
Это – здесь. А у них – в этот миг нарастает другое:
Каждый камень Нанкина захлестнут смертельной игрой,
И, сквозь меткий обстрел, человеческим мутным прибоем
Бьется гневное море о борт канонерки чужой.
Всё запомнится навек, всё скажется в жатве богатой:
Мерный стук телеграфа. Колеса, дробящие путь…
И под кожаной курткой, в кривых переулках Арбата,
Нам английский свинец обжигает упорную грудь.
1927
3
Не крепок ли чай?
Утром за завтраком, «Тайме» свой листая.
Худо вам в Лондоне, мистер Олл Райт, —
Из опрокинутой чаши Китая
Пить на крови настоявшийся чай.
Худо ль на древнем китайском фарфоре —
Стерпит и это чужая земля —
Маркой поставить корону над морем,
С надписью «боже, спаси короля».
Но неуклонно, за пулями следом,
Смело, под шелест кровавых знамен,
Входит крылатая джонка победы
В освобожденные воды времен.
В воздухе, звонком как клич Гоминдана,
Славою вычерчен вольный Шанхай. —
Рано губами причмокивать рьяно:
Эй, джентльмены, не крепок ли чай?
1927
Первое мая
Уже нам трудно заучить
Узоры льда и ветер снежный —
И солнца ломкие лучи
Теплеют медленно и нежно.
И тяжело струится пыль
На камни выветренной славы.
Адмиралтейский тусклый шпиль…
Веками стертые заставы…
Дымок над бледною Невой
В ее гранитной колыбели…
Таким он врезан, город мой.
В день догорающий апреля.
Но вот – тихонько ночь легла.
Чтоб утром вывести иное:
Москвы литые купола
Над северною стороною.
И вот уже другой напев
Качает наш невольный роздых —
И бьется знамя, осмелев,
И звонок первомайский воздух.
Ступай на улицу: она
Шуршит расцвеченной сарпинкой,
Когда страны твоей весна
В малиновой идет косынке.
Широк свободы красный звон.
Заря времен звездою всходит —
И Кремль всемирный отражен
В одном – всемирном – половодьи.
1927
Стихи о Кронштадте
Здесь слава якорем крутым
Лежит на свернутых канатах.
И тяжек синеватый дым
В волнах простертого Кронштадта.
И стклянок тонкий, мерный звон
В глухую ночь над фортом пролит.
Где каждый камень закреплен
Пластом бодрящей, влажной соли.
Маяк, спокойный на ветру,
Вода и воздух, мол широкий…
Здоровьем просмоленный труд:
Страна в движеньи, в планах, в доке.
Переплеснулась чайкой весть —
И Кремль выводит командиров.
И красный вымпел поднят здесь
Над плоской палубою мира.
Всё крепнет кормчая рука.
Десятый рейс упорно начат. —
Свобода, врезана в века
Твоя негнущаяся мачта!
Былые дни – в костер, на слом:
В моря времен, к потокам света
Стальным, высоким кораблем
Плывет республика советов.
1927
Порт
Он вычерчен углем в неясном тумане.
На слух и на ощупь обветрен и груб.
Но он не предаст, не остынет, не встанет —
Крутой перелесок и тросов и труб.
С зарей он шумит, просыпаясь угрюмо —
И цепь громыхает в проржавленный люк;
Распахнутый жадно, он зевами трюмов
Глотает мазут, и пшено, и урюк.
Он грузы на коготь разлаписто ловит —
И груз полукругом плывет в синеве,
И вымпел, алее запекшейся крови,
Над жилами барок кричит о Москве.
<1927>
30 791,74 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
12+Litresda chiqarilgan sana:
19 fevral 2013Hajm:
272 Sahifa 5 illyustratsiayalarISBN:
978-5-91763-085-4Tuzuvchi:
Mualliflik huquqi egasi:
Водолейseriyasiga kiradi "Серебряный век. Паралипоменон"