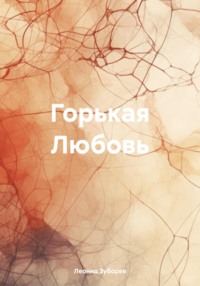Kitobni o'qish: «ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ»
Отрывки из произведений М. Горького набраны жирным шрифтом и отмечены звездочкой*
ПРОЛОГ
Кустарные красильни Алешиного деда не выдерживали конкуренции с появившимися текстильными фабриками. Да вдобавок братья матери переругались из-за ее приданого. Дед вынужден был разделиться с сыновьями, его красильное дело зачахло, – и старик разорился. Старик стал злым, и лишь бабушка, как прежде, осталась такой же ласковой, заменяя Алеше рано умерших родителей. Она рассказывала внуку сказки, пела народные песни, одарила его своей духовностью, закалив для суровой жизни.
У разорившихся существовал обычай, отдавать ребенка в дом зажиточного ремесленника. Вроде бы в учение, а фактически в рабство. Если у мальчишки хватало смекалки и его цепкие руки сочетались с мозгами, то и сам, даст Бог, становился хозяином. Дед Каширин поступил как другие. Через некоторое время, после похорон матери Алексея, скупой дед выпроваживал внука:
«Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди»…
Восьми лет определили Алешу «в мальчики», но месяца через два парнишка обварил руки щами, и был отослан хозяином назад. По выздоровлении отдали в ученье к чертёжнику, дальнему родственнику, но через год мальчик убежал от него.
На пароходе, когда был там поварёнком, на Алешу сильно влиял повар. У этого отставного унтер-офицера, сказочной физической силы, очень начитанного, имелся сундук, наполненный книгами. Повар возбудил в ученике интерес к книге, научил любить её. Он привил парню, «дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу», страсть к чтению, и тот до безумия стал зачитываться всем, что попадало под руку. Любовь к чтению изменила всю жизнь Алексея, заставила юношу по-новому взглянуть на мир и на свое место в нем. Чтение спасало от отчаяния беспросветной жизни. К этому времени на дороги России голод выгнал скитаться в поисках работы пять миллионов босяков-бунтарей, стремившихся сбросить иго злой доли.
В одиннадцать лет круглый сирота жил в трущобах. Странствуя, перебивался подёнщиной. Когда стал прислуживать в лавке, гулять на улицу не пускали, а работы все прибавлялось. Сверх уборки, хозяин приказал еще набивать коленкор, наклеивать чертежи, переписывать сметы, проверять счета.
Вечерами Алексей сидел во дворе на куче бревен, глядя в окна. Напротив снимала квартиру интеллигентная женщина с ребенком. Сквозь занавеси он наблюдал за ними. Иногда соседка приглашала его к себе. Алексей садился в обитое золотистым шёлком кресло, ее дочь забиралась ему на колени, и парень рассказывал им о прочитанном. Дама говорила ему с досадой:
–– Тебе нужно учиться, учиться…
От нее Алексей бежал с новой книгой в руках. От этих книг в его душе сложилась уверенность, что не один он на земле и не пропадет.
Затем Алеша нашел работу на большом пароходе. Та же обязанность – помогать поварам. На кухне воеводил толстяк, с ястребиным носом и насмешливыми глазами. Самым интересным был кочегар, который ловко играл в карты.
Осенью, когда рейсы кончились, Алексей поступил учеником в мастерскую иконописи. Он должен был также прибирать ее. В иконописной, в жаре и духоте, работало двадцать мастеров из Палеха, Холуя, Мстеры. Под тягучий мотив владимирской песни тонкой кисточкой из волос горностая «богомазы» выводили страдания на лицах святых. Вечерами Алексей рассказывал своим учителям о пароходе, читал им книги, понимая, что люди эти мало чего в жизни видели, ибо были посажены в тесную клетку мастерской, и с той поры сидели в ней.
Это они все еще пребывали «в людях», а Алексей одной ногой – уже в большом, пусть пока еще книжном, мире.
Жестокие «университеты»
Пытливый 15-летний юноша отправился в Казань, чтобы осуществить свою мечту – учиться в университете, но очень скоро понял всю иллюзорность этой затеи. Он простодушно полагал, что науки преподаются даром.
Хотели призвать на военную службу, но в солдаты не взяли – дырявые легкие. Короче – негоден!
Чтобы прокормиться, необходимо было работать. Стал на пивном складе мыть бутылки, развозить квас, работал садовником, дворником, поденщиком. И хотя он уже знал о жизни не мало, годы, проведенные в Казани, научили многому. Казань стала труднейшим из его «университетов».
И вот я в полутатарском городе, в тесной квартире одноэтажного дома, под развалинами – обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки…
Мать и два сына – жили на нищенскую пенсию… Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она
тихонько и осторожно спросила меня:
–– Вы зачем приехали?
–– Учиться, в университет.
–– Вы хорошо умеете чистить картофель.
Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе.
Она спросила:
–– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?
Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было
заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений…
Профессиональный вор, бывший ученик учительского института, жестоко
битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:
– Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке
честь – всё её достояние, а тебе – только хомут…
Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел,
что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал
немало хороших книг, более всех ему нравился "Граф Монте-Кристо".
– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.
Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом,
с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то
болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его
я слушал внимательно, чувствуя их красоту.
– Баба, баба! – выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась
румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на всё
пойду. Для неё, как для черта, – нет греха! Живи влюблён, лучше
этого ничего не придумано!*
Вор этот был талантливым рассказчиком и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви. Хорошо относился к Алексею щеголь, с тонкими пальцами музыканта. Он имел лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», а на самом деле сбывал краденое.
«Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся!» – говорил он мне,
солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза.
–– Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.
– -Что значит – духовный?
–– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство.
Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому…*
В это время у Алексея появились новые знакомства. На пустырь поиграть в городки собирались гимназисты. Узнав, как трудно Алексею, один из них предложил вместе готовиться в учителя. Потом Алексея свели с таинственным человеком. Тот, расспросив, какие книги он прочитал, пригласил парня заниматься в кружке. Алексей, моложе всех, был совершенно не подготовлен. Потом познакомили с владельцем бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной улочки. В квартире хозяина властвовало шумное сборище студентов, пребывавших в заботах о русском народе, в тревоге о будущем России. Сыном народа называли они Алексея, но ему не нравилось это, он чувствовал себя не сыном, а пасынком жизни. Летом его влекло на Волгу.
Увлеченный всем, что творилось вокруг, Алексей зарабатывал мало. Нужно было искать на зиму работу, и он нашел ее в крендельной пекарне, где было тяжело физически, а еще тяжелее – морально. Трудясь по четырнадцать часов, он не мог в будни ходить к студентам, в праздничные же дни – отсыпался. Чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди стремились забыться, находя утешение в кабаках и в холодных объятиях проституток.
Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его – долго рассказывали друг другу испытанных наслаждениях. В этих беседах цинично хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них брезгливо отплевываясь.
Но – странно! – за всем этим я слышал – мне чудилось – печаль и стыд. Я видел, что в "домах утешения", где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато, – это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротою. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию.. злые жалобы девушек на студентов, чиновников, и вообще на "чистую публику",
вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами: «Значит, образованные-то хуже нас!»*
Алексей наблюдал, как скука забивает людей, как создаются трогательные песни о муках любви, видел, что «дома утешения» являются «университетами», откуда выносят уродливые знания.
Лавка почти не приносила дохода, и хозяин открыл булочную, в которой Алексей был подручным и обязан был следить, чтоб пекарь не воровал.
Он, конечно, воровал, – в первую же ночь работы он отложил в сторону
десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.
-– Это – куда пойдет?
-– А это пойдет одной девченочке, – дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: – Ха-арошая девченка!
Почти ежедневно в пять, шесть часов утра, на улице, у окна пекарни является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:
«Ваня!»
Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.
«Пешков, вынимай сдобное, пора!»
Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек,
слоек, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит. Любуясь ею, пекарь говорит:
– Опусти подол, бесстыдница…
А когда она уходит, он хвастается предо мною:
«Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный: с бабами не живу, только с девицами. Это у меня – тринадцатая»…
Слушая его восторги, я думаю: «И мне – так жить?»
Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени
на мешки муки, или – если было холодно – говорил мне, сморщив переносье:
«Выдь на полчасика».
Я уходил, думая: как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах… В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее – неловко было мне с нею…
Один из учителей моих, студент математик, упрекал меня:
– Чорт вас знает, как говорите вы. Не словами, а – гирями!
Вообще – я не нравился себе, как это часто бывает у подростков. Видел себя смешным, грубым. Лицо у меня – скуластое, калмыцкое, голос – не послушен мне.
А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе и
мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее.
Иногда она спрашивала меня:
– Что вы читаете?
Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:
– А вам зачем знать это?
Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:
– Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь
студенты…
Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос:
«Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и – вроде сумасшедшего живет».
В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица…*
Алексей пытался представить сестру хозяина у себя на коленях, однако чувствовал, что такое – страшно. Пекарь же, выкидывая тесто из ларя, хвастал как утешительна и неутомима его возлюбленная…
Кончив разносить булки, Алексей ложился спать. Спал всего два-три часа, но и этот короткий сон зачастую бывал полон греховными мыслями, которые, сколько ни отмахивайся, сами лезли в голову: пекарь с его мычащей от страсти девкой, хозяйская сестра. Он вставал и снова шёл разносить товар. К полуночи выпускал сдобное, затем месил тесто для хлеба. Замесить руками около двадцати пудов – не каждому под силу! Так продолжалось изо дня в день.
Ему казалось, что он влюблен в сестру хозяина лавки. Он был без ума также от продавщицы – дородной, краснощёкой девки, с ласковой улыбкой. Он вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность жизни Алексея требовали общения с женщиной. Ему необходима была женская ласка. Нужно было откровенно поговорить, разобраться в хаосе мыслей и впечатлений…
В конце концов, Алексей решил убить себя. Купив на базаре револьвер, заряженный четырьмя патронами, оставив записку, выстрелил себе в грудь. Рассчитывал попасть в сердце, но пробил лёгкое, и через месяц, сконфуженный, снова работал в булочной. Однако, продолжалось это не долго: как-то, придя в магазин, он увидал человека, который сказал, что женится на сестре владельца лавки.
–– Она сказала мне, что вы были влюблены в неё?
–– Кажется, да, – отвечал Пешков.
–– А теперь прошло?
–– Думаю, да, – отозвался Алексей…
В 1888 году молодой человек отправился странствовать по России, с целью – лучше узнать ее. Он прошел через донские степи, по Украине, до Дуная, оттуда в Крым, потом отправился на Кавказ, где проработал год молотобойцем, затем в железнодорожных мастерских, во многих местах видя свинцовые мерзости российской жизни. В пекарне хвастливый мастер-булочник пробился наверх тем, что подговорил жену хозяина убить своего мужа. На товарной станции, где Алексей охранял мешки, дикость тамошних мещан не имела границ: кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь, чтобы возбудить «нежное чувство» у своего любовника, который узнав об этом, повесился. С непониманием смотрел он, как ребята делают девушкам «тюльпаны»: задирают вверх юбки и завязывают над головой. В другом месте странствующий подмастерье стал свидетелем жуткой сцены: крестьянин вел нагую, уличенную в неверности жену через всю деревню и безжалостно стегал ее плеткой. Когда Алексей попытался заступиться, то был жестоко избит толпой.
На берегу Дуная Алексей услыхал легенду о смелом Данко, осветившем людям путь к спасению. В трудное время, когда люди стали роптать, не видя выхода из болотистых лесов, Данко повел их на простор, к свободе. Когда в непроходимой чаще стемнело, не стало видно пути из-за стены громадных деревьев, и людей обуял страх, – Данко вырвал из груди свое сердце и повел их за собой, освещая дорогу живым маяком. Вожак вселил в гибнущих дыхание надежды.
«Что я сделаю для людей?!» – сильнее грома крикнул Данко. И вдруг он
разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его.*
Люди же, охваченные надеждой, пошли вперед, не заметив смерти предводителя, и не обратили внимания, что рядом с Данко еще пылает его жертвенное сердце.
Данко стал излюбленным героем юности восторженного скитальца. Для Алексея подвижник был подобен метеору, сжигающему себя, дабы осветить мир другим…
Первым учителем Алексея был повар, вторым – адвокат, третьим – политический ссыльный. Очарованный красочными рассказами самородка, каторжник настойчиво советовал ему записать их в простодушной манере…
I. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ – ОЛЬГА
Жить для любви
Чувства переполняли страждущую душу Алексея с тех пор, когда из-за неразделенной любви он выстрелил себе в грудь, оставив записку: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце»…
Через некоторое время Пешков сошелся с женщиной, которую полюбил и ужасно ревновал. Ему было двадцать лет, когда обиженный жизнью, нескладно одетый, он обратил на себя внимание синеглазой молодой женщины, украшенной охапкой пышных волос и наделенной чувством юмора. Уже назавтра они катались на лодке, и день был самым лучшим от сотворения мира, изумительно сверкало солнце, над рекою носился запах земляники. Они прибыли на пикник, он вынес ее на руках, а она восхищенно сказала: «Ну какой же вы силач!»
Ольга была дочерью нижегородского врача и сама медик. В течение долгого романа Горький называл Каменскую своей женой. В это время Пешков работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты. Он ни от кого не скрывал своей жизни c женщиной:
Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила:
«Почему вы так смешно одеты?»
Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы.
Я спросил, указав глазами на него:
– Это – отец или брат?
– Муж! – убежденно ответил он.
– А что? – смеясь, спросила она.
Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее, – когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча.
Одета она как-то особенно просто – в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней – ее синеватые глаза: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским
любопытством. И – это несомненно! – она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни…
Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню
города, и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города – семь
верст. Она тихонько засмеялась, обласкала меня взглядом, весь день
передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют
только для меня.*
Вскоре Алексей узнал, что она, несмотря на свою юную внешность, старше его на десять лет, воспитывалась в институте благородных девиц и была когда-то невестой коменданта Зимнего дворца. Как и ее мать, она выучилась акушерству, затем жила в Париже, училась живописи. Оказалось, что именно ее мать помогла Алексею появиться на свет, и в этом он, обрадовавшись, усмотрел судьбоносное предопределение.
Знакомство с богемой и эмигрантами, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены, – все это делало Ольгу интересной. За границей она познакомилась с революционерами. В Нижнем стала заниматься подделкой паспортов, устанавливала связи. Отсидела месяц в Метехском замке, еще месяц – в тюрьме. После этого мать прокляла ее и не пустила на порог. Для Ольги любовью была сама жизнь, и не было ничего на свете важнее и выше, чем искусство любить. Она задорно распевала французские песенки, красиво курила, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела хорошо шить. Алексей чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурней его, видел ее доброе отношение к людям. Она была интереснее всех его прежних барышень.
Акушерством она не занималась, с утра крутилась на кухне, потом весь день перерисовывала с фотографий портреты заказчиков…
Работая, она пела, а утомясь сидеть – вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка…
Маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашом или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.
Я был зол на жизнь, – она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и, порою, я чувствовал себя способным на преступление из любопытства, – готов был убить, только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?
Когда не знаешь – выдумываешь, и самое умное, чего достиг человек, это – уменье любить женщину, поклоняться ее красоте, – от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.*
Однажды, купаясь, Алексей прыгнул с баржи в воду, ударился грудью о наякорник и захлебнулся. Ломовой извозчик вытащил его. Парня откачали, пошла кровь, и он должен был лечь в постель. К нему пришла его дама. Алексей спросил, видит ли она, как он любит ее…
«Да, – сказала она, улыбаясь осторожно, – вижу и, это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас… Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать, – слышал я тихий голос. –И, конечно, я должна поговорить… я не люблю драм»…
Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез,
сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.
«Он такой беспомощный. А вы – сильный!» – со слезами на глазах сказала она.*
Вскоре в состоянии, близком к безумию, Алексей ушел из города и два года шатался по дорогам России, пережил много приключений, но все-таки сохранил в душе милый образ.
А когда ему сообщили о ее возвращении из Парижа и она, узнав, что он живет в одном городе с нею, обрадовалась, – двадцатитрехлетний юноша упал в обморок. Муж ее остался во Франции. Он не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, позвала его. Теперь она показалась Алексею еще красивее: все также молода, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз.
И вдруг она спросила:
-– Ну, что же? – вылечились вы от любви ко мне?
-– Нет.
Она видимо удивилась и все так же шопотом сказала:
«Боже мой! как изменились вы! Совершенно другой человек»…
Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, – но
не помню, как она оценила его, – кажется, она удивилась:
– Вот как, вы начали писать прозу!
Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные нелепые
тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею, и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу: «Живите со мной! пожалуйста, живите со мной!»
Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний…*
Влюбленные сняли у попа комнату, служившую когда-то баней. Алексею было мучительно стыдно за эту баню, за невозможность купить мяса на обед, принести игрушку ее дочке, за всю эту проклятую бедность. Его смущало, что он содержит свою даму в нищете, что такая жизнь – унизительна. По ночам, сидя в своем углу, переписывая прошения и жалобы, сочиняя рассказы, Алексей скрипел зубами и проклинал себя, судьбу, любовь…
Но ни одной жалобы не сорвалось с ее губ.
Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две
копейки за строку. Вечерами, за чаем, – если у нас не было гостей, -
моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь посещал
институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые
девицы чудесным образом беременели, и не редко та или иная
красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем… а потом
выходила замуж в Петербурге.
Моя жена увлекательно рассказывала мне о Париже.
Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял
какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою
любви к ней сотворена вся красота жизни.
Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах,
пережитых ей самой, – она говорила об этом удивительно интересно,
с откровенностью, которая – порою – сильно смущала меня…
Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельный,
горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво
играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко,
тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.
-– Вам нужно было начать жизнь с девушкой, – да, да! А не со мною…
Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:
– Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось
испытать столько радости, сколько я испытываю с вами, – это правда,
поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким
сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но – все-таки, – я говорю:
мы ошиблись, – я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась…
Ей очень нравилось "встряхивать" ближних мужского пола, и она
делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая,
как змея, она, быстро зажигая вокруг себя шумное оживление,
возбуждала эмоции не очень высокого качества.
Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут, и
у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно
увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.*
Мужчины восхищались Ольгой и не скрывали этого. Поклонники не переводились: нотариус, неудачник-дворянин… Белобрысый лицеист сочинял ей стихи. Алексею они казались отвратительными, Ольга же хохотала над ними до слез.
–– Зачем ты возбуждаешь их? – спрашивал Алексей.
–– Нет ни одной уважающей себя женщины, которая не любила бы кокетничать, – объясняла Ольга.
Иногда, улыбаясь, заглядывая Алексею в глаза, она спрашивала, ревнует ли он.
«Нет», – отвечал он, но все это мешало ему жить.
Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.
«Ты слишком много философствуешь, – поучала она Алексея, – жизнь, в сущности, проста и груба, не нужно осложнять ее поисками особенного».
Их литературные вкусы непримиримо расходились. Несмотря на это,
они не теряли интереса друг к другу. А главное – не гасла юная страсть. Придя с работы домой, Алексей подолгу не мог оторвать от Ольги восхищенного взгляда. Она сидела за столом и рисовала, поджав под себя стройные ноги, обтянутые светлыми чулками; блестящие, цвета спелой ржаной соломы, волосы свободно спадали на узкие плечи. Когда она встряхивала головой, весь этот водопад захлестывал ей лицо, на котором сияли большие васильковые глаза, искусно подведенные и оттороченные длинными ресницами, нежными, как крылья бабочки.
Сгорая от нетерпения, он едва мог дождаться вечера. Когда ее дочь засыпала, они занимались любовью: это было единственное, что нищий газетчик и легкомысленная акушерка могли подарить друг другу. Он целовал ее, ласкал тронутое загаром тело, шептал самые нежные слова, какие только мог придумать, зарывался лицом в ее мягкие волосы, пахнувшие свежестью. Противно скрежетала старая расхлябанная кровать, сводя его с ума, а Ольга лишь смеялась, сомкнув свои руки на его шее. Ее ничто не трогало; не нравится кровать – можно заниматься любовью на полу, на пустынном пляже, на лесной опушке, укрытой кустами от чужих взглядов…
Ее страсть пробуждала в нем вдохновение. Уставший, опустошенный, Алексей садился к столу и чувствовал, что силы возвращаются к нему, что образы, которые еще недавно казались расплывчатыми, обретают ясность. Перо легко скользило, и заглянувшее в окно солнце не могло остановить его полет.
Однако на третий год совместной жизни Алексей стал замечать, что в душе у него что-то зловеще поскрипывает. Все время, свободное от любви и службы, он жадно учился, читал. Ему все более мешали зачастившие гости.
К его писаниям Ольга относилась равнодушно, но до некоторой поры это не задевало его: он сам не верил, что может стать литератором, и смотрел на работу в газете только как на средство к существованию, хотя иногда уже грезилась самолюбивая надежда.
Однажды, под утро, когда начинающий писатель читал ей за ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль», она крепко уснула. Алексей встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокой обиды, угнетенный сомнением в своих силах. За прожитые годы он видел женщин в рабском труде, в разврате, в грязи или в самодовольной пошлой сытости. Ему думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам.
Ольге всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко
достигала успеха: разбудит ближнего – и в нем проснется скот… но
это не укрощало ее стремления «встряхивать» мужчин, и я видел, как
вокруг меня постепенно разрастается стадо баранов, быков и свиней…
Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути,
которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни,
кроме литературы, – нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.
-– Мне кажется, будет лучше, если я уеду, – сказал я жене.
Подумав, она согласилась:
-– Да, ты прав! Эта жизнь – не по тебе, я понимаю!
Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и
я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так
кончилась история моей первой любви, – хорошая история, несмотря
на ее плохой конец.
В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина!*
Алексей восхищался Ольгой: она умела жить тем, что есть, каждый день для нее был кануном праздника. Она была уверена, что завтра на земле расцветут цветы, появятся интересные люди, разыграются удивительные события.
– Живут для любви, это самое главное дело жизни, – повторяла возлюбленная. Он видел, как Ольга обожала свое тело и нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:
–– Как это славно сделано, – женщина! Как все в ней гармонично! Когда я хорошо одета, я чувствую себя здоровой, сильной и умной!
Акушерка умела красиво шить платья из простого ситца, носила же их, как шелк или бархат.
За пять лет жизни с Каменской многому научился Алексей у своей первой женщины. Муж, между тем, не терял надежды вернуть Ольгу. Кроме того поползли слухи о ее легкомысленных поступках, о флирте. После очередной попытки законного мужа вернуть любвеобильную жену, Алексей не выдержал и уехал.
II. ГИМНАЗИСТКА КАТЕРИНА
Женитьба газетчика
Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Сушит девушку любовь…
АХ, САМАРА-ГОРОДОК (народная песня)
В 1895 году набиравший силу молодой литератор расстался с Ольгой и приехал в Самару. Нижегородец получил должность в «Самарской газете» и прибавку за ежедневный фельетон. Благодаря помощи Короленко, он сумел опубликовать рассказ «Челкаш», и с того момента его имя появляется в столичных изданиях.
Первое время не Самара нравилась:из ста тысяч горожан читать умела лишь десятая часть. Вскоре литератор познакомился со многими интересными людьми, после чего поменял мнение о городе, где общественная жизнь была весьма активной. Алексей Пешков начал литсотрудником, а затем стал редактором. В ней постоянно появлялись его фельетоны на злобу дня: о воровстве, о самодурстве, о девушках, насильно выдаваемых замуж, о диких развлечениях, обывательских нравах и убогой жизни самарцев. Самой важной для него стала тема сочувствия трудовым людям, которых нещадно обирали. Фельетоны отличались смелостью обличений фабрикантов-самодуров и чиновничьего произвола. Не раз Алексею Пешкову, боясь его газетных разоблачений, предлагали деньги. Ему приходилось выставлять посетителей чуть ли не силой.