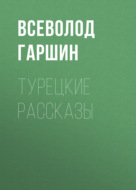Kitobni o'qish: «Повести и рассказы»
Все иллюстрации в издании предоставлены БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей им. И.С.Тургенева»(ОГЛМТ)
Для оформления переплета использованы рисунки художника А. И. Белюкина к рассказам Л. Андреева «Ангелочек» и «Большой шлем»

© Издательство «Художественная литература», 2022 г.
© БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей им. И. С. Тургенева» (ОГЛМТ), иллюстрации, 2021 г.
Сфинкс российской интеллигенции
Всё-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечёт, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю.
И.Бунин
Выдающийся русский писатель, классик литературы Серебряного века Леонид Андреев родился 9 (21) августа 1871 года в городе Орле на 2-й Пушкарной улице. Его отец, Николай Иванович, – землемер-таксатор, мать, Анастасия Николаевна, урожденная Пацковская, происходила из обедневшего польского дворянского рода. К моменту рождения сына Андреев получил место в банке, приобрел дом и начал обзаводиться хозяйством. Николай Иванович был заметной фигурой: «пушкари, проломленные головы» уважали его за необыкновенную физическую силу и чувство справедливости. Леонид Андреев позже объяснял твердость своего характера наследственностью со стороны отца, тогда как свои творческие способности целиком относил к материнской линии. Основным достоинством его мамы была беззаветная любовь к детям, и особенно к первенцу Ленуше. А еще она любила сочинять рассказы, и в них отделить быль от небылицы не мог никто.
Уже в гимназии Андреев открыл в себе дар слова: он писал сочинения для одноклассников, а взамен списывал задачки у друзей. В каждом «произведении» изменял манеру, подражая самым известным писателям современности: Чехову, Гаршину, Толстому. Но в гимназические годы Андреев о писательстве не помышлял и всерьез занимался только… рисованием. Хотя в Орле возможности учиться живописи не было, но это не помешало ему даже зарабатывать на жизнь написанными портретами и пейзажами. И впоследствии не раз сокрушался уже известный писатель о неразвитом своем таланте художника.
Помимо этого жизнь Андреева гимназиста заполняли книги Чарльза Диккенса, Жюля Верна, Майна Рида…
Можно предположить, что серьезным отношением к книге стало прочтение Писарева, а затем «В чем моя вера?» Толстого… Увлекся трудами популярных тогда немецких философов А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Знаменитый трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» на протяжении многих лет оставался одной из любимых книг Леонида Андреева.
В 1891 году, окончив гимназию, Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета, но вскоре он оставляет учебу по личным причинам. Лишь в 1893 году он восстанавливается уже в Московском университете. В мае 1897 года Л. Андреев успешно сдал государственные экзамены в университете, и, хотя диплом его оказался лишь второй степени, этого было вполне достаточно для начала адвокатской деятельности.
Однако принять активное участие в судебных разбирательствах не пришлось: написание юридических отчётов и репортажей из зала суда занимало много времени – так, выполняя задания, он проявлял свой литературный талант.
Но всё-таки начало своей литературной деятельности сам писатель датирует 1898 годом, после публикации в московской газете «Курьер» его первого рассказа «Баргамот и Гараська». Благодаря хорошим отзывам критиков, в том числе Максима Горького, Леонид Андреев попадает в писательскую среду и участвует в заседаниях книгоиздательского товарищества «Знание». Вскоре, по рекомендации Горького, становится участником знаменитых литературных «Сред», знакомится с Буниным, Вересаевым, Телешовым, Куприным и другими писателями-реалистами, собиравшимися для чтения и обсуждения написанных произведений. Творческое общение, дружеская и в то же время строгая критика, да и просто теплота и понимание, – все это было крайне необходимо Андрееву. В 1900 году писатель делает окончательный выбор в пользу литературы.
В 1901 году издательство «Знание» выпускает первый сборник рассказов Андреева. Книга выдерживает за год четыре переиздания, это приносит ее автору широкую известность.
О чем же писал тогда Андреев и кто были его герои? Сюжеты он почти не выдумывал – просто умел их выделить из происходящего вокруг в Орле, Петербурге, Москве. На окрестных улицах родного города увидел персонажей будущих его рассказов – Баргамота и Гараську, Сазонку и Сенисту («Гостинец»), Сашку («Ангелочек»). Растаявший ангелочек, жизнь ницшеанца Сергея Петровича, соседство в палате купца Кошеварова и дьякона Сперанского («Жили-были»), – все это происходило «на самом деле». И во всем этом надо было увидеть что-то, скрытое от других глаз, сказать о привычном особенными словами. Но мог ли говорить в действительности подсмотренный Андреевым «маленький человек» о том, «какая это странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного»? К тому же и читатели нашли уже в первом его сборнике те самые «кошмары жизни», которые проникали в каждую душу, не признавая социальных перегородок. В необходимости своих произведений, в общечеловеческой, нравственной значимости привычных бытовых коллизий – писатель не сомневался.
Широкая известность, пришедшая к автору, была одной стороной его жизни, а другая сторона, как впоследствии писатель отмечал: «…любовь составляет необходимое условие моего человеческого существования и личную жизнь». После перенесенных душевных травм он получил согласие на брак с Александрой Михайловной Велигорской – внучатой племянницей Тараса Шевченко. Ей незадолго до свадьбы он посвятил сборник лирических рассказов. «Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга… Ты одна из всех людей знаешь мое сердце, ты одна заглянула в глубину его – и… когда сомневался я сам, ты поверила в меня».
Казалось бы, все складывалось удачно: писательская слава, общение с выдающимися людьми России и, наконец, любовь прекрасной девушки, женитьба. И вот оно – счастье… но очередным трагическим потрясением для Андреева оказалась смерть жены в 1906 году.
Леонид Николаевич безутешен и по приглашению Алексея Максимовича Горького уезжает на Капри. В доме писателя его понимают и стремятся помочь избавиться от уныния и тоски.
В период Первой русской революции Леонид Андреев под влиянием Максима Горького увлекается ее идеями. Искренне сопереживая борцам, поддерживая их – в начале 1905 года он даже отсидел две недели в тюрьме за предоставление своей квартиры членам ЦК РСДРП, – хотя истинное свободолюбие этот писатель находил только в отдельной личности. И потому склонности к политической активности Андреев и не проявлял. Ему интересно – столкновение «чувства» и «мысли».
Пережив тяжелый период жизни, глубоко погрузившись в работу, Андреев публикует объявление о вакансии личного секретаря и на собеседовании знакомится с Анной Ильиничной Денисевич, ставшей впоследствии его женой. Ей было тогда 22 года. Сразу после свадьбы, это событие произошло в 1908 году, чета Андреевых переехала в финскую деревню Ваммельсу, недалеко от Петербурга, причем новый дом для молодых супругов Андреев проектировал сам. Устроенный быт вносит размеренность и в работу Андреева. Эта усадьба, похожая на скандинавский средневековый замок, не сохранилась.
Андреев был одним из самых востребованных писателей своего времени. На 1906–1908 годы приходится пик его популярности. Несмотря на это, с каждым новым произведением автора все более заметной становилась его обособленность от всех существовавших тогда литературных течений. Понимая это, писатель задает себе вопрос: «Кто я?» Растерянность Андреева была объяснима: многих писателей реалистического направления – Чехова, Гаршина, Толстого, Достоевского – он высоко ценил как своих учителей; хотя остро чувствовал свою оторванность от литературных традиций XIX века. Новая эпоха – начало XX века – диктовала новое содержание его творчеству и требовала для этого содержания новых форм. Но не социальные потрясения были основным источником тревоги, которая наполняла андреевские произведения. А одинокая личность и ее трагедия, оказавшаяся перед неизвестностью. Подобные переживания были знакомы многим. Раскрывал в своих произведениях волнующие его вопросы каждый художник по-разному.
Громко и внушительно прозвучал голос богооставленного человека, обращенный к безмолвным небесам, в «Жизни Василия Фивейского», написанной в 1903 году. Одно из лучших произведений писателя было высоко оценено критикой.
Появившийся в 1900 году «Рассказ о Сергее Петровиче» – этот синтез опыта автора, миропостижения «по Ницше» и собственных впечатлений, в них он часто маскировал глубочайшее отчаяние.
Замечательным примером обращения Андреева к формам реалистического повествования является написанная в 1908 году повесть «Рассказ о семи повешенных». Внимательный взгляд художника останавливается на фигуре террориста, и снова он отыскивает в ней не политически или идеологически значимое, а общечеловечески ценное.
Современники называли Леонида Андреева «сфинксом российской интеллигенции» и пытались понять и объяснить необычный «строй души» этого художника. Позже, благодаря письмам, дневникам и воспоминаниям стали известны источники, влиявшие на умонастроения Андреева.
Автор завораживал читателей, раскрывая перед ними самые темные и мрачные закоулки человеческой души, сюжеты в его рассказах и повестях надолго врезались в память.
После революции 1917 года писатель оказался в вынужденной эмиграции: деревня, в которой он жил, отошла по мирному договору Финляндии. Андреев тяжело переживал все революционные перипетии в стране и оторванность от России. 19 мая 1918 года он записал в своем дневнике: «Вчера вечером нахлынула на меня тоска, та самая жестокая и страшная тоска, с которой я борюсь, как с самой смертью».
12 сентября 1919 года в Финляндии, в отдалённой деревне Нейвола, куда семья писателя перебралась из-за близости к линии фронта, в возрасте 48 лет скончался Леонид Андреев. Граница, обозначившая в 1918 году независимость Финляндии, оказалась почти непроницаемой, и долго еще в прессе публиковались подтверждения и опровержения печальной вести.
Каким же останется в памяти Леонид Николаевич Андреев?
Из многочисленных свидетельств современников перед читателем предстает добрый, участливый человек, ощущавший непреходящее одиночество в любом обществе.
Корней Чуковский, хорошо знавший Леонида Николаевича, не раз отмечал добрую душу писателя, помогавшего попавшим в беду и даже тем, кто не всегда был к нему лояльным.
Александр Блок в статье «Памяти Леонида Андреева» писал: «Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске – смерть».
Максим Горький отмечал: «Он был таков, каким хотел и умел быть – человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины».
А сам Леонид Андреев считал: «Ложь перед самим собою – это наиболее распространённая и самая низкая форма порабощения человека жизнью».
Вокруг творчества писателя долгие годы шла нешуточная полемика.
В 1930 году вышла книга «Реквием. Памяти Леонида Андреева», а потом – долгие годы молчания.
Второе «открытие» творчества Леонида Андреева произошло в 1956 году с выходом сборника «Рассказы».
Спустя десятилетия прекрасный писатель, хороший художник, честный человек Леонид Николаевич Андреев вернулся к своему читателю.
Баргамот и Гараська
Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности «Баргамот» скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.
Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.
Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!
– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».
Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут как неприкаянный.
«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.
Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!
«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.
Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.
– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.
– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.
Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли, Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.
На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.
Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.
– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.
– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.
– Наша дорога прямая…
– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.
– Не можете.
Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок,
– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.
Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:
– А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?
– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.
– А у Михаила-архангела звонили?
– Звонили. Тебе-то что?
– Христос, значит, воскрес?
– Ну, воскрес.
– Так позвольте… – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.
Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.
Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.
– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.
Воет. Баргамот в раздумье.
– Да чего тебя расхватывает?
– Яи-ч-ко…
Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.
– Я… по-благородному… похристосоваться… яичко, а ты… – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.
Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.
– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.
– Похристосоваться хотел… Тоже душа живая, – бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово… в участок! Ишь ты!
Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.
– Ну… – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?
– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!
– А ты чего же?
– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в… в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!
Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.
– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.
– Да ты, чучело огородное, пойми…
Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:
– Пойдем ко мне разговляться.
– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!
– Пойдем, говорю!
Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще… разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.
– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!
– Да нет, не то я говорю… – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык…
Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, – но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.
Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська,
– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то… сюрпризец? – спрашивает Марья.
– Не надо, потом… – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.
– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим… как звать вас по батюшке?
– Андреич.
– Кушайте, Герасим Андреич.
Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.
– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.
– По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…
1898 г.