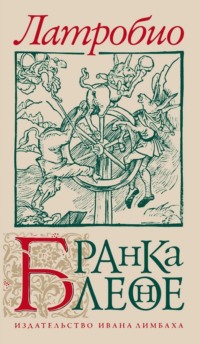Kitobni o'qish: «Бранкалеоне»
* * *
© Р. Л. Шмараков, перевод, вступительная статья, комментарии, 2024
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024
© Издательство Ивана Лимбаха, 2024
Осел, навьюченный дидактическими пособиями
Роман «Бранкалеоне» вышел в Милане в 1610 году. Это издание отмечено явным стремлением уменьшить расходы: непритязательная ксилография на фронтисписе, не в первый раз используемые и уже стершиеся литеры, тесный набор, в котором строка почти наезжает на строку. Автор укрылся за криптонимом Латробио: он восходит к изречению Эпикура «Живи неприметно» (λάθε βιώσας), неоднократно варьировавшемуся в языческой и христианской литературе1, и означает что-то вроде «Скрытноживущий» (от корня λαθρ-, «тайно», и βιόω, «живу»).
В книге есть посвятительное письмо, сочиненное издателем, Джован Баттистой Альцато; есть обращение к читателю, составленное миланским священником Джеронимо Тривульцио: он рассказывает, как, найдя эту историю среди «писаний моего монсиньора», сказал сему последнему, что хорошо бы ее издать, а тот отвечал, «чтобы я поступил с нею, как мне угодно, затем что он мне ее дарит, и прибавил, что, хотя предмет, который в ней трактуется, кажется пустым, все же она будет весьма полезна тому, кто ее прочтет и внимательно обдумает»; есть, наконец, авторское вступление. На основании этих трех текстов можно делать догадки об авторе романа. В определительных выражениях на этот счет высказался итальянский иезуит и плодовитый писатель Франческо Саверио Квадрио (1695–1756), в многотомном труде «Об истории и смысле всякой поэзии» посвятивший страницу «Бранкалеоне». Он называет его «почти неотличимой копией „Золотого осла“», об авторстве же говорит вот что:
«Кто таков Латробио, сочинивший эту кни гу, мне неизвестно. Тривульцио в письме к читателям определенно показывает, что этот роман не им написан. (Далее Квадрио цитирует почти целиком обращение Тривульцио к читателям. – Р. Ш.) ‹…› Итак, есть немалое подозрение, что этот роман, в самом деле заключающий в себе непрерывное нравоучение, сочинен кем-то, не желавшим по определенным соображениям выступать открыто. Есть предание, что дело происходило в Милане и что эта книга – труд некоего Безуцци, жившего при дворе святого Карло Борромео. Это был, без сомнения, Антон Джорджо Безуцци, который в юные свои лета к упражнениям воинской жизни, коей себя посвящал, прибавлял ученые занятия и труды в изящной словесности; можно найти любовную жалобу его сочинения и другие напечатанные безделицы. Переменив потом образ мыслей и состояние, он всецело отдался занятиям благочестия и произвел в этой области много сочинений, благодаря чему был допущен в самый ближний круг упомянутого святого Карло. По смерти сего прославленного архиепископа кардинал Федерико Борромео пожелал иметь Безуцци при себе; так оно и оставалось до смерти сего последнего. Итак, кардинал Федерико, нашед сию рукопись между теми, что у него были от Безуцци, должно быть, подарил ее Тривульцио, с тем, однако же, условием, чтобы не публиковал оной иначе как под вымышленным именем» (Quadrio 1749,399).
Атрибуцию, предложенную Квадрио, в дальнейшем без сомнений воспроизводят все, у кого был случай высказаться о «Бранкалеоне»; она кочует по справочной и научной литературе2 почти до конца XX века, пока не появилась статья Ренцо Брагантини, коренным образом изменившая общепринятые взгляды на вопрос3. Таким образом, криптоним Латробио, исправно несший свою службу без малого четыреста лет, мы должны признать не только практичным, но еще и очень метким.
Брагантини спрашивает: почему Квадрио счел, что Безоцци (Безуцци), на которого указывает предание, – именно этот, Антон Джорджо Безоцци? – и перечисляет еще троих с этой фамилией, действовавших в то же время и в том же краю, обращающих на себя внимание ученостью или литературными интересами, причем один, Джован Франческо, – автор «Жизнеописания блаженного Карло Борромео», изданного в Милане в 1601 году, а другой, Лудовико, – один из первых хранителей миланской Амброзианы (основанной кардиналом Федерико Борромео).
Что до Антон Джорджо Безоцци, на роль автора «Бранкалеоне» он подходит мало. Его автопортрет, набросанный в посвятительном письме «Жизнеописания блаженного Альберто Безоцци» (Милан, 1606), представляет Безоцци человеком, стремящимся реформировать в христианском (то есть посттридентинском) духе военное образование: «Имея возможность богатых бенефициев, и епископств, и выгодных партий, и службы у государей, я отказался от всего этого ради участия в создании военной семинарии, ибо папа Григорий XIII, которому я ради этого был представлен, и блаженный Карло, меня представивший, два светоча христианской веры нашего времени, видели в этом способ преобразовать религию: Христианство не получит должных преобразований, пока не будет устроено подобающее воинство, а подобающим оно сделается лишь таким образом, а посему я следую этим занятиям и помыслам, намереваясь в них умереть».
Это человек, у которого есть интересы более сильные и устойчивые, чем изящная словесность, – интересы, которые, надо полагать, отозвались бы в его романистике, если б он за нее взялся, между тем в «Бранкалеоне» мы ничего подобного не находим. Немногочисленные сочинения Безоцци не позволяют увидеть в нем автора такого сложного и утонченного текста, как «Бранкалеоне». С другой стороны, тема благоразумия, prudentia, широко распространенная в политической литературе конца XVI – первой половины XVII века, становится одной из важнейших тем нашего романа (ей посвящено все вступление), однако нигде в романе не заходит речь о такой ее стороне, как воинское благоразумие, prudentia militaris4 (которому отведена, например, пятая книга «Политики» Липсия, хорошо известной автору «Бранкалеоне»), чего стоило ждать, будь автором романа Антон Джорджо Безоцци.
Брагантини обнаружил опись библиотеки Безоцци (165 томов); анализ ее показывает, в частности, неточность портрета Безоцци, начертанного Квадрио: человек, в юности прилежавший военному делу, а потом отошедший от него ради занятий благочестия. Доля текстов, касающихся военного дела, приближается к 20 % (и значительно увеличивается, если прибавить исторические сочинения, затрагивающие военные вопросы), причем многие из этих книг вышли в свет в годы, близкие к смерти Безоцци, что свидетельствует о его стойком внимании к предмету. Трудно представить, что осведомленность и заинтересованность Безоцци в этой сфере совсем никак не отразились бы в «Бранкалеоне» (хотя бы на уровне цитат), будь он его автором. С другой стороны, автор «Бранкалеоне» – человек, обладающий серьезными познаниями в медицине, а о Безоцци этого не скажешь.
Сопоставив вступительное письмо Тривульцио с тем, что говорит о себе автор «Бранкалеоне» во вступлении («Я не хочу сам издавать ее в свет по двум причинам…»), Брагантини приходит к выводу, что таинственный монсиньор и есть автор книги, демонстративно устранившийся от ее издания, и что, таким образом, автора «Бранкалеоне» следует искать в документированном круге знакомств миланского священника Джеронимо Тривульцио.
И вот наконец Брагантини предлагает кандидатуру – Джован Пьетро Джуссани (Джуссано), чье имя еще в XVII веке упоминалось в связи с «Бранкалеоне»5. В отличие от Безоцци, Джуссани – человек, чья биография хорошо известна.
Он родился в Милане, в знатном семействе, между 1548 и 1553 годом; кончил медицинский факультет, был принят в миланскую Коллегию господ медиков (Collegium Dominoram Physicorum) в мае 1572 году; оставил медицину и был рукоположен в иподиакона (24 сентября 1580), в диакона (17 декабря того же года) и в священника (18 февраля 1581). Он был среди приближенных миланского архиепископа Карло Борромео (1538–1584)6, одного из величайших реформаторов Католической церкви в XVI веке. После смерти архиепископа Джуссани жил преимущественно в Монце. Кардинал Федерико Борромео, кузен миланского архиепископа, назначил Джуссани в Коллегию хранителей Амброзианы (1610) как одного из трех представителей городского духовенства; эту должность Джуссани отправлял долгие годы. Умер он в 1623 году и был погребен в Монце, в церкви Санта-Мария делле Грацие. Среди его религиозных сочинений выделяется «Жизнь святого Карло Борромео»: поручение сочинить такую книгу, свидетельствовавшее о высоком к нему доверии, Джуссани принял в конце 1605 года от Конгрегации облагав и от кардинала Чезаре Баронио, тут же взялся за работу и посвятил ей несколько лет. Эта биография, изданная, с посвящением папе Павлу V, в Риме в 1610 году, одновременно с канонизацией Карло Борромео (и в один год с «Бранкалеоне»), и получившая широкую известность не только в Италии, но и за ее пределами7, тотчас сделалась мишенью резкой критики. Карло Баскапе, епископ Новары и близкий друг святого, нашел ее дурно написанной, неточной и плохо документированной, а ее автора, взявшегося за такой труд без консультации с более искушенными историками, – лишенным необходимой скромности. Джуссани защищался, перекладывая вину на печатников и на вмешательство других лиц без его ведома. В 1612 году в Брешии вышло второе издание «Жизни…», «пересмотренное и очищенное от некоторых ошибок, бывших в римском издании». Возможно, горечь от подобных споров и оправданий побудила уязвленного Джуссани окончательно перебраться из Милана в тихую Монцу.
Джован Баттиста Альцато, или Альчати, напечатавший в 1610 году «Бранкалеоне», был известен, помимо этой книги, всего одним изданием.
Брагантини указывает еще три книги, напечатанные Альцато с 1609 по 1624 год, и все они связаны с именем Джуссани, а одна из них – еще и с именем Джеронимо Тривульцио: это, напомним, человек, который появляется перед читателем «Бранкалеоне» на первых страницах, рекомендует его вниманию книгу и сообщает скупые – слишком скупые! – сведения о ее происхождении. Брагантини показывает тесные деловые связи между тремя этими людьми, продолжавшиеся, вероятно, до самой смерти Джуссани, а затем переходит к внутренним отношениям между «Бранкалеоне» и достоверными его сочинениями.
В частности, его «Наставление отцам, чтобы умели хорошо управлять своим семейством» (Милан, 1603) содержит развернутое рассуждение о правлении, которое, хотя по природе своей абсолютно, должно осуществляться «с любовью и приязнью к подданным»; этому есть близкий аналог в 34-й главе «Бранкалеоне» («Воистину, главное, о чем должен позаботиться государь, – расположение к нему подданных…»). Кроме того, автор «Наставления…» обнаруживает пристрастие к Эзоповой басне, которой приписывает несравненную педагогическую ценность и которую он, заимствовавшись ее сюжетом, способен сильно перерабатывать, – и то и другое прямо относится к «Бранкалеоне». Далее, «Послание к знатной особе» (Милан, 1609), трактующее о благородном сословии с цитатами из Сенеки о том, что все в людском мире зависит от мнения (opinio), находит в «Бранкалеоне» параллель в речах огородника (гл. 16). Коротко сказать, другие сочинения Джуссани показывают совместимость с «Бранкалеоне» (и этим отличаются от сочинений Безоцци), решение же публиковать роман под криптонимом объясняется одновременным изданием давно готовившейся «Жизни святого Карло»: различие между двумя этими текстами слишком велико (чтобы, добавим от себя, один не компрометировал другой). «Этот, доныне полуизвестный, шедевр прозы начала XVII века можно без промедления вернуть его законному отцу», – заканчивает Брагантини.
* * *
Источники, из которых заимствовался Джуссани, и модели, на которые он ориентировался, хорошо различимы и давно указаны. Во-первых, это роман Апулея. Знаменитый французский филолог Пьер-Даниэль Юэ (1630–1721), один из немногочисленных читателей «Бранкалеоне», в «Трактате о возникновении романов» (1670) говорит: «Вне всякого сомнения, „Бранкалеоне“ – подражание „Ослу“ Лукия или Апулея. Сия остроумная и весьма занимательная повесть написана в Италии» – и к этому прибавляет, что на той же античной модели Сервантес основал свою «Новеллу о беседе Сипиона и Бергансы» (Юэ 2007,388).
Финальные эпизоды романа восходят к новелле Страпаролы (Приятные ночи. X. 2): бежавший от жестокого хозяина осел встречает в горной чащобе свирепого льва, но «обманами и уловками» умеет внушить к себе уважение и в последовавших приключениях неизменно дурачит сильного, но не очень умного соперника. Именно у Страпаролы происходит тот разговор, которому роман Джуссани обязан своим названием: лев говорит: «Я зовусь Львом (leone), a тебя как зовут?» – на что расхрабрившийся осел отвечает: «А меня зовут Бранкалеоне», то есть Цапни Льва8. Обратившись к новелле Страпаролы, Джуссани глубоко ее перерабатывает. Во-первых, у него вся эта череда ослиных обманов кончается не торжеством, но гибелью обманщика и дает автору возможность произнести над его телом заключительную мораль. Во-вторых, у Страпаролы дело происходит в полусказочной Аркадии, где может водиться что угодно, а у Джуссани – в современной Тоскане, и ему приходится объяснять читателям, откуда там взялся лев: он объясняет, и это дает ему возможность прибавить к политическому плану своей «морально-политической басни»9 замечание о том, что владыкам следует преимущественно заботиться об образованных людях, а не о своем зверинце (гл. 33), а кроме того, за басенным сюжетом наметить пусть условный, но исторический фон, в котором действуют Лоренцо Медичи, полководец Скандербег, флорентийский поп Арлотто, кардинал Сальвиати, вообще люди с собственными именами: о важности этого фона мы поговорим ниже. В-третьих, Джуссани передоверяет своему герою роль экзегета, которую раньше исполнял сам автор. Вот, например, как у Страпаролы осел объясняет, что не случайно упал поперек моста, а расположился так намеренно:
«Прикинувшись, что распален гневом, осел надменно ответил: „О негодяй и злодей, ты спрашиваешь меня, почему я тебя браню? Знай же, ты лишил меня самого несравненного удовольствия, какое я когда-либо за всю мою жизнь испытывал. Ты подумал о том, как бы я не погиб, а я в это время радовался и наслаждался“. На это лев спросил у осла: „А от чего ты испытывал удовольствие?“ – „Я умышленно расположился на этом стволе и притом так, чтобы половина меня свешивалась по одну его сторону, а вторая – по другую, и хотел во что бы то ни стало узнать, что весит у меня больше, голова или хвост“» (Страпарола 1978, 297).
А вот что он говорит у Джуссани:
«Надлежит тебе знать, что государи утверждены в своем сане не ради собственного могущества или удобства, но для блага и пользы подданных, так что не должно им помышлять ни о чем, кроме умения править подобающим образом, вперяя взоры преимущественно в общее благо, которое блюдется с помощью справедливости и милосердия, или сострадания, совокупленных одно с другим; посему государь должен быть не только справедливым, но еще и сострадательным. Эти добродетели должны сочетаться так, чтобы одна не подрывала другой, так что государь должен быть справедлив и сострадателен в согласии с требованиями общего блага. И чтобы не склоняться больше на одну сторону, чем на другую, надобно часто сосредоточиваться в себе самом, взвешивая две сии добродетели на весах исследования своих деяний, дабы познать, как они в тебе живут. Это я и хотел исполнить теперь в себе самом. Поэтому я и расположился таким образом на мосту, для справедливого взвешивания передней части, где пребывает милосердие, и задней, где восседает справедливость, дабы узнать, равны ли они во мне, поставленном править такими звериными толпищами. Так как, однако, ты отнял у меня такой прекрасный случай, ничего уже не поделаешь…» (гл. 37).
Кажется, что Джуссани компрометирует собственные намерения: ту политическую аллегорезу, которой – по-видимому чистосердечно – занимался автор (см. в особенности главу 27), перехватывает и с тем же успехом занимается ею герой, только не из искреннего желания наставить льва, а по своей злонамеренности и честолюбию. Для чего ему такая автопародия? Эта дискредитация политических толкований хорошо вписывается в общую картину недейственности и противоречивости дидактического аппарата, которую рисует Джуссани и о которой мы скажем ниже.
Далее, россыпь вставных историй, нанизанных на традиционный костяк «похождений осла», заимствована в массе случаев из Эзопа10, а также из плутовской новеллистики (рассказы работников) и из анекдотов, высмеивающих тупость крестьян (рассказы огородника). Что скрепляет эти многочисленные истории в романе?
Всю историю Бранкалеоне можно описать как развертывание двух тем, совета (consiglio) и примера (essempio). Пример (в смысле «история, иллюстрирующая моральное суждение») упоминается в романе более 50 раз. Важность его связана с центральной темой авторского вступления – благоразумием. Память, мать благоразумия, представляет собой, помимо прочего, знание «многочисленных и разных примеров»; их открывает нам история, которой мы должны быть за то благодарны, по замечанию Цицерона; сколь наставительны чужие примеры, тому учат нас Тит Ливий и Тацит; сам автор называет «примером» анекдот о Формионе, историю о германском князе и его конюхе, и, наконец, «правдивый и достоверный рассказ о жизни одного животного», то есть сюжет своего романа.
В самом романе мать-ослица, давая сыну долгие наставления, называет примерами притчу об осле, навьюченном статуей Юпитера, и о прискорбном решении мышей (гл. 3). Примерами называют рассказываемые ими новеллы оба работника (гл. 9, 10). Потом и огородник называет истории, которые он рассказывал в присутствии осла, примерами, хозяин спрашивает: «Такты знаешь истории и примеры?» – и между ними происходит разговор на эту тему (гл. 16). Старый осел приводит сардинскому юноше «современный пример, именно одного осла, бывшего моим другом» (гл. 19). Рассказ о дебатах на совете ослов ведет за собой череду примеров: о зайцах и косулях, коне и олене, баране и козле, кролике и еже (гл. 21), осле у Юпитера и осленке у реки (гл. 21, 23). Настоящая вакханалия примеров разворачивается в гл. 27, где «пример» принимает значение «притчи, подлежащей толкованию»; здесь оказываются примерами не только рассказы участников ослиного совета, но и сами его участники («мулишка»). После этого поток примеров зримо иссякает: домашний пес называет себя самого и свое благополучие примером для осла (гл. 29), автор называет примером гибель коварного и тщеславного лиса (гл. 35).
Важность чужого примера ведет к важности чужого совета. Ослица-мать ссылается на своего мудрого дядю, который, неведомо для себя цитируя Ливия, говаривал, что «животное, которое само знает все, что ему надобно, – наилучшее; которое, само не зная, склоняет слух к чужим наставлениям, – хорошее; но то, которое и не знает, и не желает научиться от других, – дурное животное» (гл. 3). Перечислить все советы, подаваемые друг другу персонажами романа, значило бы переписать роман целиком, но на совете в значении «совместного обсуждения» стоит остановиться.
Все совещания, о которых рассказывается в романе, составляют сюжет вставных новелл (иначе говоря, все эти советы приводятся кем-то из рассказчиков как «пример»). Первый совет, нами встречаемый, – это всеобщий собор мышей, о котором повествует мать-ослица (гл. 4)11. С рассказами огородника в роман приходят советы ломбардских крестьян: их мы видим в гл. 8 (по поводу засыхающего тополя), 13 (по поводу обид, чинимых солнцем), 17 (строительство колокольни и сев иголок), 18 (борьба с гусеницами; без совета «у них и самое мелочное решение не принималось», замечает здесь рассказчик). Наконец, обширный рассказ старого осла о совете ослов, композиционный аналог апулеевской сказки об Амуре и Психее, стоит в центре романа, занимая главы 20–27 из тридцати девяти. Для дидактизма Джуссани характерно, что Бранкалеоне – в отличие от Луция, чьим ушам эта история не предназначалась, – прямой адресат этого рассказа; а для восприятия «Золотого осла» как аллегорического романа характерно, что рассказ старого осла завершается аллегорезой (это упоминавшаяся выше 27-я глава, в которой автор, прерывая рассказ, выходит на сцену и объясняет читателю морально-политический смысл происшедшего). На этом эпизоде, центральном в романе12, советы иссякают; уже здесь мы видим желание честолюбивых ослов избежать общего собрания или манипулировать его ходом, а в дальнейшем перед нами только удачные попытки лиса навязать совету свое решение (гл. 34) или противодействовать его созыву (гл. 35). Ни одно из описанных в романе совещаний не заканчивается добрым решением – все они в разной мере нелепы или прямо пагубны13. Этот безрадостный взгляд на пределы людской рациональности, на плодотворность коллективных обсуждений и на способность быть глухим к голосу своих страстей стоит в связи с общей картиной бесплодности педагогических усилий, предстающей нашему взгляду в романе. Тут нам стоит вернуться к Апулею.
«Бранкалеоне», несомненно, одно из проявлений богатой итальянской рецепции «Метаморфоз»14. В его мире, однако, невозможно никакое превращение, осел останется ослом; более того, эта невозможность превращения и необходимость познать, что ты принадлежишь своей участи, – главная моральная тема романа, а попытки Бранкалеоне противиться этой невозможности – главный двигатель его приключений и причина его гибели. Что общего между Луцием-ослом и Бранкалеоне? Обычно это сходство понимается в том смысле, что осел, наделенный разумом, – привилегированный наблюдатель, он может видеть вещи, к которым не допускают чужих людей. Однако даже если мы взглянем на похождения апулеевского осла, то заметим, что он не столько видит, сколько слышит. В самом деле, многое ли из его приключений попадает в категорию «вещи, которые люди постыдились или остереглись бы делать при осле, если бы знали, что он существо разумное»? Очень немногое – насилие скопцов над мужиком (VIII. 29), историю мельника, его блудливой жены и ее нечестивой мести (IX. 22–31), стычку огородника с солдатом (IX. 40) – вот, пожалуй, и все; и даже эпизод с «ослиной Пасифаей» (X. 21–22), строго говоря, сюда не входит, потому что она ведь и влюбилась в него по его разумности. С другой стороны, Луций слышит рассказы разбойников о превратностях грабежей (IV. 8-21), жалобы Хариты (IV. 26–27), сказку об Амуре и Психее (IV 28-VI. 24), рассказ Тлеполема, выдающего себя заразбойника Гема (VII. 5–8), рассказ о гибели Тлеполема и Хариты (VIII. 1-14), анекдот о бочке (IX. 5–7), историю новой Федры (Χ. 2–6) и т. д. – все это его ушам не предназначалось. Но Бранкалеоне в этом очень отличается от Луция: он вообще не подглядывает ни за какими происшествиями, которые дали бы ему (или автору) пищу для размышлений и моральных выводов, – он только подслушивает. Ведь пример, exemplum, – жанр словесности, это не то, что происходит у тебя перед глазами, а то, о чем тебе рассказывают. В «Бранкалеоне» беспрестанно о чем-то говорят, и почти все15 эти истории, помимо воли рассказчиков, адресованы ослу, неся поучение, которое ему предстоит осмыслить. Бранкалеоне – скиталец в мире густой дидактики, осел Апулея, бредущий по страницам Валерия Максима.
Он отменно умеет в этом мире ориентироваться. Первая реплика, с какой он появляется в романе (конец 5-й главы), пресекая и обессмысливая бесконечные материнские поучения, показывает его умение одним авторитетом парировать другой:
«Добрая мать еще хотела продолжать свои наставления, но осленок, скучая этою рацеей, сказал так:
– Любезная моя матушка, благодарю вас за доброжелательность, какую вы мне выказываете, но знайте, что я не могу больше слушать, ибо дрема меня долит, и потом, вы поведали мне столько всего, что и половины было слишком, и я уже забыл бóльшую часть. Четыре дня назад я пасся с вашим братом и слышал от него, что всякое животное рождается со своим жребием, добрым или злым, который им правит, а потому нет нужды в таком множестве наставлений для благополучия одного осла; засим дайте мне поспать остаток ночи, ибо я в этом весьма нуждаюсь».
В дальнейшем он умеет забыть одни наставления любящей матери, а другими воспользоваться так, что она бы пришла в ужас. «Когда окажешься или на дороге, или в других обстоятельствах при их (людей. – Р. Ш) беседе, навостри уши и слушай прилежно, ибо научишься многим прекрасным вещам, которые тебе потом весьма пригодятся, и узнаешь, как с их помощью управлять самим собой», – говорила она (гл. 3); он внимательно слушает рассказы огородника и работников и выносит из них, между прочим, что «там, где недостает собственных сил, надобно восполнить хитроумием и плутней» (гл. 14)16; вспоминает он эту заповедь в 35-й главе, при начале своей недолгой, но блистательной карьеры звериного монарха, – но мать никак не имела в виду, что полученные таким образом наставления должны служить его честолюбию.
Роман Джуссани – еще и новая реинтерпретация боккаччиевского жанра, очередной ответ на вопрос «что еще можно сделать с обрамленным сборником новелл». Теперь это роман со вставными новеллами17. Стоит заметить, что развернутый сюжет рамочного повествования дает вставным новеллам возможность обратного воздействия. Там, где рамка представляет собой диалог, что значат для него новеллы? Может ли новелла влиять на поведение персонажей рамки? Пока они ведут разговор, они неуязвимы, как боги, у них нет никакого поведения, кроме речевого, и никакого времени, кроме настоящего, благодаря чему они избавлены от страхов, надежд и необходимости быть дальновидными; эти изящные и красивые люди, ведущие беседу о любви и красоте, никак не переменятся от своих собственных рассказов: они хозяева этой беседы, они породили эту новеллу и убьют ее при необходимости, она служит для них источником удовольствия и доводом в споре – ничем больше. С другой стороны, посмотрим на «Путешествие трех королевичей Серендипских» (1557), гораздо более архаическое в жанровом смысле, чем современная ему новеллистика Фиренцуолы, но располагающее более или менее развитым рамочным сюжетом, с гордыми царями и мудрыми советниками: здесь именно вставные новеллы ведут к счастливому концу рамочного сюжета, исцеляя императора Берамо. У Джуссани же именно способность и желание главного героя реагировать на дидактическую составляющую вставных новелл организуют сюжет и создают этическую проблему романа. Вставная новелла в «Бранкалеоне» находится в некотором отношении к сюжету (то есть к главному герою) и к морально-политическому ее истолкованию (то есть к читателю). Эта громоздкая педагогика применительно к ослу терпит крах как вследствие противоречивости своих уроков, так и вследствие его неукротимого честолюбия, – но над ее руинами встает автор и произносит последнюю мораль, заимствованную у Аристотеля и Джованни Ботеро. «Таков был конец Бранкалеоне, который с помощью великой злокозненности в короткое время взошел к такому могуществу, что подчинился ему царь зверей. Из сего случая можно вывести, сколь справедливо суждение, что все, производимое насилием, недолговечно». Осел не оправдал педагогических надежд, но есть еще читатель.
Жизнь Бранкалеоне вообще делится на три этапа сообразно тому, кто задает ему этические рамки. Сначала это была мать – одни ее заповеди он исполнял, пренебрегая другими; потом ее сменил старый осел, которого Бранкалеоне называет отцом (гл. 19) и который обновляет в его памяти материнскую заповедь «познай самого себя»: повторим, что в нашем романе это заповедь смирения, призывающая знать тесные пределы своей участи и мало отличающаяся от пословицы «Всяк сверчок знай свой шесток». Под влиянием старого осла Бранкалеоне смиряется со своим положением, изгоняет из сердца «всякую скорбь и всякий честолюбивый помысел» (гл. 31) и живет спокойно – на этом бы сюжет и кончился, если бы осел не попался в руки воплощенной гордыне, испанцу. Именно «его испанская спесь», suo fasto spagnuolo (гл. 31), оживляет мечты Бранкалеоне стать чем-то большим осла: с обрезанными ушами, в пышном уборе с гремушками, он перестает быть похож на себя самого и может морочить голову окружающим.
Благодаря тому, что финальная часть романа заимствована у Страпаролы, Бранкалеоне оказался единственным персонажем, у которого есть личное имя18. Нам это представляется важным: имя, которое он дает себе сам, запечатлевает его попытку присвоить себе другой статус, выше самого высокого статуса в зверином мире: «Если ты лев, то я – Цапни Льва». Иначе говоря, его имя – символ его честолюбивых притязаний, противоречащих наставлениям его мудрых родителей и, как вскоре выяснится, гибельных для него.
Но можно посмотреть на это с другой стороны. Все персонажи, окружающие Бранкалеоне, – персонажи басни, чье бытие исчерпывается ихположением: «ослица-мать», «флорентинский дворянин», «огородник», «работник», «старый осел»; собственное имя было бы излишне и мешало бы скупому изяществу их жанрового поведения. В этом смысле Бранкалеоне, нарекший себе имя, стремится выбраться из мира басни в мир истории – тот, где есть Лоренцо Медичи, полководец Скандербег и другие имена, осененные личной славой. Традиционное противопоставление «басни» (fabula), основанной на вымысле, и «истории» (historia), придерживающейся правды, здесь разыгрывается по-новому, с точки зрения честолюбца, стремящегося сменить поприще и во всех смыслах сделать себе имя. То, что по поводу его гибели автор произносит финальную мораль, – свидетельство поражения, которое терпит герой: Бранкалеоне остается запертым в жанре, из которого так усердно старался выбраться.