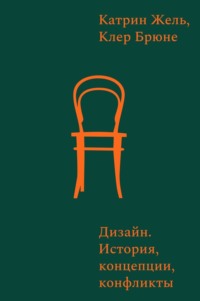Kitobni o'qish: «Дизайн. История, концепты, конфликты»
Catherine Geel, Claire Brunet. Le design: histoire, concepts, combats.
Все права защищены
© Музей современного искусства «Гараж», 2025
© Artguide s.r.o, 2025
© Éditions Gallimard, Paris, 2023
Вступление
Дизайн, исторический эксперимент
Дизайн, будь то проектная культура или промышленный продукт, неразрывно связан с объектами и их метаморфозами в эпоху массовой культуры и массового производства. Однако из-за одержимости инновациями, зацикленности на репрезентации и из-за разного рода региональных особенностей во франкофонном мире история дизайна нередко оказывается рассказана в весьма специфической, понятной только специалистам манере, и к тому же со множеством лакун в области осмысления факторов, повлиявших на возникновение и развитие этой дисциплины1, 2.
Таким образом, настоящее издание претендует на то, чтобы стать своего рода манифестом. Для авторов крайне важна идея того, что осмысление дизайна невозможно без анализа его истории, а потому необходимо рассматривать дизайн ситуативно, описывать его косвенные задачи, а также исследовать связанную с ним проблематику (в том числе с хронологических позиций). В этой книге исторический нарратив представлен как череда весьма крупных разделов, что помогает сосредоточить внимание на тех или иных концепциях, идеях, вещах, сериях предметов и на дискуссиях вокруг них. Другими словами, речь пойдет не только о знаковых и знаменитых событиях и менее заметных деталях, но и в первую очередь о многозначности слова «дизайн», его богатой синонимичности, о разнообразии его форм – чтобы выявить и утвердить определение этого термина, привязанное к контексту его бытования.
Авторы намеренно касаются лишь отдельных событий – так удается лучше подсветить важные для истории дизайна моменты. Все исследование построено на такого рода «вспышках», пересечениях, каждое из которых обозначает проблемы, стоявшие перед дизайном: это стандартизация, вопросы потребления и функциональности, дихотомия экспонирования и искусства, экологичность, а также влияние геополитических факторов, в том числе войн. При такой оптике течение времени перестает быть спокойным – происходит намеренный отказ от неспешного созерцания стилей, доктрин и отдельных предметов.
Эта книга не энциклопедия и никогда не мыслилась в таком ключе, а потому в ней есть упущения. Она сфокусирована прежде всего на тех точках, в которых всеобщее понимание дизайна претерпевало серьезнейшие изменения. Среди таких переломных моментов – ссора в Кёльне в 1914 году, манифест Баухауса 1919 года, появление Ульмской школы дизайна в послевоенной Германии, дипломный проект Андреа Бранци в 1964 году, начавшиеся в конце 1990-х исследования в области критического дизайна в Королевском колледже и т. п. Во всех этих точках происходило своего рода короткое замыкание, после которого дизайн продолжал существовать уже в новом режиме.
Для авторов книги история дизайна складывается из череды такого рода всплесков и существенных подробностей. Переосмысление привычной терминологии, дискуссии, взгляд не только в будущее, но и в прошлое, критическое мышление – все это позволяет дизайнеру переосмыслять и переизобретать свою профессию. В этом ключе дизайн, конечно, напоминает зону боевых действий, и его скорее стоит понимать не как вектор, четко направленный поток, но как некий туман или даже облако (если вспомнить Чарльза Дженкса и его эволюционное дерево архитектуры и искусства, см. рис. 2). Пересекая это поле, читатель обязательно встретится с растяжками смыслов и сменой дислокации нарративов.

Рис. 2. Чарльз Дженкс. Эволюционное дерево архитектуры искусства. 2000
Впервые опубликовано в Architectural Review в июле 2000 года, в 2011 году размещено онлайн. В этом хронологическом срезе, противопоставленном чрезвычайно зарегулированной, ортогональной решетке модернистов, Дженкс смягчает историю архитектуры, буквально придавая ей плавные формы. Благодаря такому способу отображения хронология перестает быть строгой последовательностью и становится более сложной и при этом живой системой. Такой подрыв привычного восприятия дизайна оказывается близок Андреа Бранци, Джорджу Нельсону и Алессандро Мендини.
Разумеется, дизайн в общепринятом смысле слова – это не архитектура. Он – серая зона, что-то, что оказывается вне поля зрения в промышленности. Внезапно возникая на определенном историческом этапе, дизайн, согласно провозглашенной им же самим формуле, хочет лишь одного – правильного (то есть благотворного) эффекта от его вмешательства, будь то создание чайной ложки или целого города. С тех пор как дизайн получил свое современное определение, со времен тотальной коммерциализации, он, словно облака у Дженкса, плывет, постоянно преобразуясь и меняя пейзаж настоящего.
Таким образом, рассматривать дизайн с исторической точки зрения – значит воспринимать его как «отношение к исторической жизни»3, а не через призму появления еще одной научной дисциплины. Если Париж с его газовыми фонарями и витринами образует «столицу XIX века» и маркирует переход от века только производственного к веку также коммерческому, то дизайн в современном смысле, его воздействие на жизнь определяются среди прочего такими факторами, как войны и послевоенные периоды, промышленный уклад и его география, возникновение новых технологий и т. п. Дизайнеры это знают и говорят об этом. Так, Андреа Бранци писал по поводу Берлина: «Я выиграл конкурс на обустройство территории у Берлинской стены. Я предлагал снести ее, однако сохранить траншею, этот городской канал, вдоль которого я расположил бы своеобразные архивы ХХ века. Таким образом, я оставил бы этот шрам, этот отпечаток нерешенного, отвергаемого, отрицаемого, но по-прежнему открытого вопроса, эту границу, по которой измерялась вся история этого столетия»4 – эти слова дают довольно ясное представление о том, как дизайнер воспринимает время.
В нашем анализе, в ограниченном смысле массового производства, дизайн родился вместе с бодлерианской современностью в середине евро-атлантического XIX века и опирался на политические, экономические и технологические достижения столетия. Его распространение часто комментируют и сторонники, и противники прогресса. Извне – историки или критики дизайна. Изнутри – сами дизайнеры: Андреа Бранци, Алессандро Мендини и некоторые другие относятся к тем, кто держит в своих руках штурвал и перо. Вышедшее из войны и господства фашизма, это поколение дизайнеров хотело, чтобы современность стала менее эфемерной, буквально пустила корни, избавившись от мифов и высокомерия, признав и осмыслив свои заблуждения и ошибки, а также сформулировала возможные пути развития. Космополитичные, с легкостью меняющие места обитания и работы, эти дизайнеры подорвали существовавший миропорядок, отказались от «европейских привилегий» и предложили вернуться к антропологической, народной и доиндустриальной концепции дизайна.
Так, в 1974 году в статье «Историческая фантазия»5 для журнала Casabella Мендини утверждал: «История, прошлое – это огромный и богатейший арсенал уже произошедшего, дезорганизованных и неорганичных ситуаций». Дизайнер 1970-х годов не мог стать историографом; единственное, что было в его силах, – совершить это «сентиментальное» путешествие в прошлое. Позиция вполне в духе Вальтера Беньямина: написать историю – значит придать зримый образ датам. В этом смысле профессия дизайнера, конечно, предполагает увязывание прошлого с «собственной историей и историей своих соратников», ибо «в дизайне вещи эволюционируют, регрессируют и вновь возникают, как археологические находки». Более того, эта историческая фантазия невозможна без нашей слепоты. В том же 1974 году, в разгар «свинцовых семидесятых», когда из-за расцвета радикальных течений случился разгул уличного насилия и экстремизма, Мендини публикует «Маневры жизни» и обличает следующее повседневное противоречие: «Мы живем в окружении больших проблем: массовых кровопролитий, рецессии, войн, энергетического голода. Но чтобы жить, мы занимаемся малым. <…> Хорошо ли, плохо ли, мы придумываем мебель и кухонную утварь, беседки, ванны и унитазы, проектируем плотины и города в то время, как вокруг нас взрываются бомбы. <…> Разве мы из тех, чья судьба… лишь в том, чтобы превращать города в их собственные кладбища?» Сопоставляя глобальное и локальное, общее и частное, Мендини меняет их местами, определяя уникальное положение дизайна: «А вдруг большие проблемы на самом деле малы, а малые – велики? Есть ли смысл в том, чтобы “мериться” проблемами?»6 Проектируя города, плотины, мебель и кухонную утварь, дизайнер вовсе не игнорирует ни войны, ни жизни маленьких людей. Он не приносит одних в жертву другим. Потерпев поражение от так называемого прогрессизма первооткрывателей, дизайнер занимает позицию стратегического бытовизма и своей работой подкрепляет теорию малых дел. Такова сфера деятельности автономного дизайна.
Так же как Райнер Мария Рильке в «Письмах к молодому поэту» раскрывает эстетические концепции, на которые опирается, журнал Domus формулирует задачу молодого дизайнера: исчислять настоящее от начала 1980-х и отказаться от замечательных моделей типа итальянского неоавангарда групп Alchimia и Memphis и от методологического очарования Ульмской школы дизайна. Иначе говоря, разрабатывать дизайн так, чтобы он казался «мельчайшими, едва заметными уколами акупунктурной иглой на дряблом теле заблуждений»7. И это еще один способ уловить веяние времени.
В 1957 году мысли, схожие с теми, что впоследствии озвучат итальянцы, высказывал американский дизайнер Джордж Нельсон: «У нас есть бомбы и одноразовые носовые платки, однако в нашем общем перечне промышленных товаров, похоже, очень мало тех, что могли бы противостоять хорошо спланированной дезинтеграции». По его мнению, «наше общество, по крайней мере внешне, посвящает себя созданию цивилизации суперкомфорта. <…> Но может ли общество ставить своей высшей целью обладание удобствами, оставаясь при этом непрочным?»8
Бранци, Нельсон, Мендини… Чтение теоретических работ дизайнеров основополагающе, поскольку эти труды не что иное, как свидетельства или описания истории, и неважно, обращаются ли их авторы к анализу прошлого или же пытаются препарировать настоящее. Эти тексты образуют непрестанно разрастающийся массив – они цитируют и дополняют друг друга, превращаются в компендиумы, формируют библиотеки… Дизайнеры читают друг друга, а потому вполне возможно представить, как выглядят их книжные полки, и очертить круг занимающих их проблем.
Аналитический разбор позволяет понять, что массив «текстов о дизайне» одновременно невероятно обширен и при этом узконаправлен – в основном труды затрагивают область гуманитарных и общественных наук, а также научно-технические аспекты. Таким образом, историки и искусствоведы сопоставляют пересекающиеся проблемы, связанные с формализацией как самих предметов, так и соединенных с ними диспозитивов, а источниками для их работы выступают литература, кино и фотография. И здесь становится видно, что высокая и массовая культура не взаимозаменяемы. Что в дизайне занимаемые позиции охватывают все оттенки экономического и политического спектра. Иначе говоря, вариантов дизайна много, рейтинги разнообразны, загнутых страниц предостаточно, причем нередко совсем не в академических трудах. И здесь возникает вопрос: не являются ли тексты дизайнеров в некотором роде маргинальными? Все эти работы разных жанров и разных уровней сложности. Можно встретить политические статьи, редакторские колонки, поэзию, расшифровки интервью и лекций, эссе, художественную прозу, концептуальные протоколы, активистские материалы, киносценарии, личные дневники, автобиографии, а иногда и учебники по личностному росту. Впрочем, здесь следует помнить, что практически любая рефлексия полезна, а язык, общение, высказывание необходимы для аргументации проекта, обмена идеями, исследования концепций и дискуссий.
Остается принципиальный парадокс, сформулированный в теории архитектуры, – трудность написания истории модернизма, притом что современность претендует на «конец истории»9. Находясь, как и архитектура, между очарованием и отвращением, единением и стремлением к независимости, восхищением и протестом, буквально между кровосмесительной любовью и подростковым бунтом, дизайн оказывается в том же логическом тупике10. Настоящее издание старается найти выход из этого тупика – перебирая различные пути, изучая разнонаправленные тенденции, авторы стремятся понимать историю дизайна не только в рамках современности. Принимая схематический характер общепринятой хронологии, выбранный авторами путь – это не только череда концепций, маркирующих эпохи, но и сопоставление этих концепций. Это путь между войнами и реконструкциями, технологическими прорывами и способами организации труда, между искусством и наукой… Здесь не будет ни чистого строительства, к чему стремился Баухаус, ни чистого разрушения. Нужно рассматривать и бомбы, и кухонную утварь, и кладбища, и города – все то, что составляло, составляет и, возможно, будет составлять нашу жизнь. И экспериментировать.
Часть первая
Модернизации
Чтобы лучше понять влияние модернизации не только на дизайн, но и на любые другие сферы жизни, необходимо выйти за рамки, которые описывают термином «современность», и в целом использовать иной язык, нежели тот, что характерен для нарратива канонической и героической истории. Понятие «модернизация» позволяет вобрать в себя весь комплекс преобразований XIX – ХХ веков и обозначает процесс, в ходе которого капитализм использовал промышленный прогресс, чтобы создать рыночную экономику.
В рамках глобализованных систем производства и реализации товаров, способных рационально упорядочить повседневный общественный и частный опыт людей, дизайн объединяет постоянно расширяющиеся практики. Это можно определить как принятие дизайном ответственности за формы рационализации существования людей во всем его разнообразии (предметы обихода, интерьер, архитектура, транспорт, урбанизм, коммуникация, организация жизни и труда и т. п.). Помимо простой хроники создания культовых предметов – от рекламы «пилюль Pink для людей с бледной кожей»11 до чайника Марианны Брандт, – знаменитые споры о стандарте и критические замечания общества неразрывно связаны с дизайном. В этом отношении дизайн находится в верхней точке, а за ним следуют критика, разрушение и реконфигурация. Он пытается противопоставить собственную череду изобретений крушению классических моделей, таких как семейные и ремесленные производственные структуры, практика заказа предметов роскоши и индивидуального пошива, и их относительно стабильных зон действия – мастерских, мануфактур, бутиков.
Дизайн – это промежуточное звено между программированием и проектированием12: нормализируя и формализируя место человека, он стандартизирует формы жизни. Он не только стимулирует модернизацию, но и выступает оператором этого процесса. Три термина – «современность», «дизайн» и «массовость» – встречаются в основополагающей заповеди дизайна: в современном мире дизайн должен работать на массового потребителя. Это утверждение, однако, абстрагировано от противоположного подтекста: в наши дни дизайн нередко кажется чем-то элитарным. Предметы дизайна ХХ века и их создатели – это нередко культурные иконы. Их продвигают музеи современного или прикладного искусства, журналы и изготовители, воспроизводящие «классику» ограниченной серией за баснословные деньги. Поэтому необходимо задаться вопросом, действительно ли запросы массового потребителя и задачи дизайна совпадают. Попытка разобраться, как дизайн решает (или не решает) эту проблему, возможно, поможет найти ответ.
Предлагаемый в этой книге взгляд на историю дизайна подчеркивает его социальные и культурные последствия. Кроме того, история одних только производственных процессов, бесспорно, слишком близка истории технологий и монографической преемственности дизайнеров и их работ, но при этом остается в рамках интереса к формальному и контекстуальному анализу объектов. Импульсивное приобретение чего-то потрясающего, но при этом совершенно бесполезного и нефункционального, – это уже чистое потребительское наслаждение, которое невозможно оценивать в отрыве от времени совершения покупки.
Тексты, в основном немецкие и англоязычные, на которые опираются авторы, отражают изменения, вызванные стремительным развитием науки и техники в XIX и XX веках, которое, в свою очередь, вызвало смену Lebensform, или формы жизни, – и возможно, именно дизайн был одним из вспомогательных факторов этих преобразований. Тогда стоит задаться вопросом: быть может, начиная с определенного момента интерес к разработке предметов обихода являлся попыткой «приручить» дизайн? А страсть к процедурам, протоколам и контролю качества – не она ли положила начало постоянному оцениванию? О каком столь превозносимом освобождении благодаря потоку информации тогда может идти речь?
Проблема вооруженных конфликтов, мало затрагиваемая в традиционных трудах по истории дизайна, – если не считать передачи технологий, которую эти конфликты сделали возможными, – занимает особое место в этом первичном подходе к дизайну, особенно в контексте порождаемой войнами брутализации жизни. В этом смысле термин «модернизм» и его трактовка, оказавшие влияние на историю искусства и философию, кажутся недостаточными, неточными, ограниченными. Действительно, технические и эстетические, социальные и экономические изменения происходили в условиях, отмеченных двумя мировыми войнами, крупнейшими политическими и идеологическими революциями, бесчисленными кризисами капитализма, и вызвали глобализацию, в значительной степени географически сосредоточенную на Западе. Все это стимулирует критический взгляд на роль и место дизайна.
Глава первая
Рационализация и механизация форм жизни
1850–1920
Уже в конце XVIII века развитие высокопроизводительной механизированной индустрии потребовало от западного общества адаптироваться к темпам прогресса. Благодаря новым отраслям промышленности у дизайнера – создателя форм появилась беспрецедентная роль, которую впоследствии утвердили и закрепили функционалистские идеи. Одновременно с этим домашний очаг стал не только конечной точкой производства, но и отправным пунктом реформаторских течений. Интенсификация жизни – в высшей степени модернистский мотив, требующий иногда новообращенных дизайнеров, – диктовала общие задачи по формулированию типов, или стандартов.
Идеально и в своей концепции элементарно, что наш дом – это живая машина. Сохранение тепла, инсоляция, естественное и искусственное освещение, гигиена, защита от непогоды, уход за автомобилем, приготовление пищи, радио, значительное облегчение работы домохозяйки, сексуальная и семейная жизнь и т. д. Дом – общая составляющая всех этих процессов.
Ханнес Майер, 192813
Начиная осмысление дизайна, исследователи обычно подчеркивают сложность при определении, что это такое14, 15. Слово «дизайн» – это ярко выраженный англицизм, особенно когда он образует различные формы. Неоднозначность термина делает его во французском языке одновременно существительным («дизайн этого предмета»), прилагательным («это дизайнерский предмет») и даже глаголом («он спроектировал этот предмет»)16. Французская академия предлагала слово «стилизатор» вместо «дизайнер», однако термин не прижился, поскольку практика дизайна шире, чем стилизация. Так или иначе, дизайн подразумевает создание чего-то нового, пусть даже и с опорой на прошлый опыт. Он связан с творческой деятельностью, вписывающейся в отношения с промышленностью, искусством и техникой, что влечет за собой социальные, культурные и психологические последствия. Итогом работы дизайнера становятся не только предметы, но и устройства. Существует большая связь между развитием производственных систем и содержанием артефактов и идей, которые они порождают. Продумывание и внедрение механизированной и высокопроизводительной промышленности становится насущной потребностью. И кажется, именно в этот момент появляется дизайнер в своей новой роли – роли, которая неразрывно связана с промышленной революцией и модернизацией вообще.