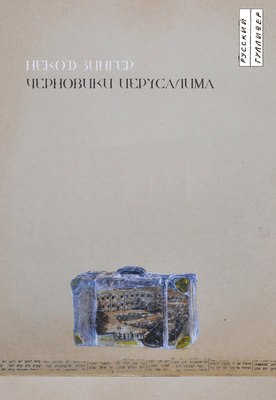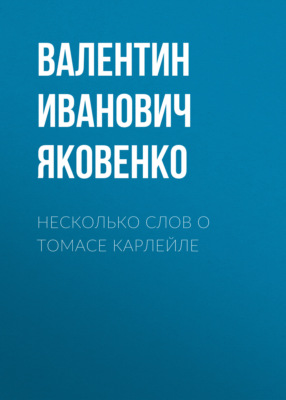Kitobni o'qish: «Месть и примирение»
Несколько слов о Веттерберге и шведской литературе
Шведская литература у нас вообще так мало известна, что я, намереваясь теперь познакомить публику с сочинением Карла Антона Веттерберга (Wetterbergh), занимающего одно из первых мест не только между современными писателями своего отечества, но и вообще, считаю нелишним сказать несколько слов и о литературе этой нации, богатой и разнообразной, и начало которой относится еще ко временам язычества, ко временам бардов и викингов, когда написаны скандинавские саги и столь известные северные поэмы: обе Эдды. – С введением христианства, саги изменили свой дикий характер, явились легенды; шведский язык начал все более и более развиваться; сохраняя свое скандинавское начало, он уже стал языком отдельным, самостоятельным. Правда, что вместе с католицизмом латинский язык стал языком ученых и имел пагубное влияние на развитие шведского; долгое время ученые, литераторы и даже поэты почти исключительно писали на этом языке. В этот период творения национальные были или забыты, или искажаемы противными народности переделками. Наконец, шведский язык стал вытеснять латинский; но раз поддавшись иностранному влиянию, Швеция не могла вдруг от него освободиться, и Франция, в свою очередь, имела сильное влияние на её вкус и литературу. Потомки викингов принялись разыгрывать роль маркизов, всячески стараясь подражать героям Версаля и Трианона. Муза саги уступила свою лиру музе берегов Сены. Закрывали глаза и затыкали уши, чтоб не видеть величественных скал отечества, не слышать бурного голоса его лесов и озер. Все великие и славные воспоминания искажались и уничтожались под влиянием неудачного подражания. В это время Швеция не хотела и не умела понять, что первое достоинство всякой нации есть национальность.
Чрез несколько лет после смерти Густава III, то есть в начале нынешнего столетия, и для Швеции, наконец, пробил час возрождения отечественной литературы. Образовались два литературные общества; одно называлось «Аврора» (Aurora Förbundet), другое «Готическое общество» (Götiska Förbundet). Оба стремились к одной общей цели – национальности, но старались достичь её разными путями. В главе первого из них, основаного в Упсале 10 октября 1807 года, находился Аттербом (Atterbom). Членами этого общества, издававшего периодический сборник «Фосфорос» (Phosplioros), были: Пальмблад (Palmblad), Стенгаммар (Stenhammar), Ингельгрен (Ingelgren), Эльгстрем (Elgström), Хедеборн (Hedeborn), Сондён (Sonden) и м. д., Романтизм и германская туманность были преобладающими чертами фосфористов; они, так сказать, все парили в облаках: ничего ясного, определенного, положительного. Труды их, в сущности, не принесли большой пользы. «Готическое общество», основанное в Стокгольме 16 февраля 1811 года и издававшее сборник под заглавием «Идуна» (Iduna), ознаменовалось, напротив, замечательными творениями, и сборник его приобрел почетное место в истории шведской литературы. Членами «Готического общества» были: Гейэр (Geijer), Тегнер (Tegnér), барон Адлербет (Àdierbeth), Афцелиус (Afzelius), Гумелиус (Gumaelius), Никандер (Nicander), Лидман (Lidman), Бруцелиус (Bruzelius), Бесков (Beskow) и м. д. «Готическое общество» восставало против подражания иностранному, но преимущественно в самой сущности, а не в форме, и занималось предметами отечественной истории.
Сколько-нибудь знакомые с современными шведским романом и повестью знают имена Альмквиста (Almqvist), Веттерберга (Wetterbergh), Риддерстада (Ridderstad), Пальмблада (Palmblad), Топелиуса (Z. Topelius). Фредерика Бремер (Frederika Bremer) известна своими романами вседневной семейной жизни, переведенными на английский, немецкий и французский языки. Жаль только, что романы её слишком однообразны и односторонни, и по этому только очень немногие из них будут нравиться нашей публике; сочинения её никогда не приобретут популярности. Эмилия Карлен (Emilie Carlen) гораздо более понравится нам; в её романах более жизни, действия, энергии, разнообразия.
Карл Антон Веттерберг (Wetterbergh), занимающий столь почетное место в шведской литературе и издавший большую часть своих истинно-замечательных произведений под заглавием: «Очерки дяди Адама» (Genremålniugar of Onkel Adam), родился в Генкенинге (Jönköping) 6 июня 1804 года. Первоначальное его воспитание было во многих отношениях оригинально, что, быть-может, и было причиною тому направлению ума, которое так ясно отразилось в его творениях. Отец его, советник гофгерихта, Иоган Веттерберг, бывший первым его учителем, был убежден, что ум человеческий нельзя развивать по наперед-установленным формам, и считал все разделения между науками на высшие и низшие излишними и бесполезными. Потому-то преподавание почти исключительно ограничивалось изустными объяснениями и чтением. Надобно заметить, что и относительно чтения, отец Карла Веттерберга имел свой особый взгляд: сыну предоставлена была полная свобода читать все заключающееся в огромной библиотеке отца, так что мальчику часто попадались книги, которые были не по его летам. – В 1822 году Веттерберг поступил в лундский университет. Желая как можно скорее иметь возможность не обременять собою своих очень небогатых родителей, Веттерберг решился избрать карьеру юриста; но с год после поступления его в университет, отец его, совершенно непредвиденно, лишился последних средств и всякой возможности по желанию поддерживать сына. Известие об этом сильно потрясло юношу, но он не упал духом и отвечал отцу, чтоб тот не заботился о нем, что он, с помощью Божией, и сам как-нибудь да пробьется.
И действительно, с этих пор Веттерберг получал из дому только на одежду, обо всем остальном он должен был сам заботиться; правда, что, несмотря на все лишения, многое все же приходилось брать в долг, в ожидании более благоприятного времени. Не имея уже теперь прежней причины спешить, скорее, окончить свое образование и создать себе независимое положение, Веттерберг решился последовать своему призванию и быть врачом. Скоро он приобрел хорошие познания в химии и заслужил общее внимание профессоров и товарищей, так что многие студенты стали брать у него уроки. Это несколько поправило его обстоятельства, но ему все же вряд ли бы удалось пробиться, еслибы не принял в нем участия профессор Прамберг (Job. Bernh. Pramberg), который не только всячески поддерживал и поощрял его, давал ему полезные советы, но даже, несмотря на то, что был человек недостаточный, нередко давал ему в займы денег, без всяких иных ручательств, кроме – отметки в календаре.
Литературное поприще Веттерберга началось с 1832 года, рецензией о книге «Harolden II», написанной шутя и помещенной в газете «Stockholms Posten». Познакомившись чрез это с редактором этой газеты, Веттерберг стал помещать в ней небольшие статьи «Норброского философа» (Filosofen pâ Norrbro) и тому подобные.
Эти литературные занятия продолжались недолго и с отъездом Веттерберга из Стокгольма прекратились до 1840 года, когда случай снова заставил его взяться за перо. В Эстерсунде (Oestersund), где он в то время был доктором, Веттербергу часто нечего было читать.
Год этот был тяжелым годом для Веттерберга: в течении трех месяцев он потерял малютку дочь, отца и тестя. Это нетолько его жестоко огорчило, но совершенно убило нежно-любимую им жену – а чем развлечь ее, чем сократить бесконечно-длинные зимние вечера? И вот Веттерберг снова принялся писать, написал очерк, прочитал его жене и знакомым; статья понравилась всем, и он продолжал. Таким образом у него постепенно накопилось довольно много рукописей, часть которых потом была затеряна или уничтожена; некоторые же из них Веттерберг отослал к другу своему в Стокгольм, тот передал их редактору «Aftonblaclct» и они были напечатаны в этой газете.
По просьбе г. Герта (L. J. Hjerta), Веттерберг стал после этого отсылать свои статьи к нему, для помещения в «Aftonbladet». Большая часть их напечатана под псевдонимом «дяди Адама»; в числе их были и очерки, перепечатанные потом под заглавием: «Очерки дяди Адама» (Genremålningar of Onkel Adam), «Гувернантка» (Guvernanten), «Четыре подписи» (De fyra sugnaturerna); последнее есть собрание небольших повестей и очерков, из которых особенно хороши «Месть и примирение» (Hämd ach Fürsoning), «Инвалид» (Invaliden) и «Четыре студента» (De fyru studenter).
Сочинения Веттерберга скоро приобрели известность; они принадлежат к числу повестей и романов, в которых особенно развита какая-нибудь мысль (tendenz-romaner); но это более происходит от взгляда Веттерберга на вещи, чем от желания высказывать свои взгляды, свое направление. Вот что сам он говорит относительно этого: «Когда ставят скирд, то втыкают сперва шест и потом кладут вокруг снопы; случается иногда, что шест торчит из скирда, когда он готов, и кто же может запретить людям думать, что скирд поставлен для шеста, хотя это сделано совершенно наоборот. Так тоже нередко случается, когда, избрав какую-нибудь мысль, разовьешь вокруг ней повесть».
Из прочих сочинений Веттерберга заслуживают особенного внимания его очерк Får gå! (Куда ни шло), Ett Namn (Громкое имя), Träskeden (Деревянная ложка), Hat ach kärlek (Любовь и ненависть). Впрочем, его сочинения так хороши, что пришлось бы все их назвать, и поэтому мы ограничиваемся приведенными. Большая часть их переведена на немецкий и датский язык, и некоторые на английский и французский. Желая познакомить русскую публику с этим замечательным писателем, мы предлагаем ей перевод повести: «Месть и примирение».
Наталья Шпилевская
I. Семейная сцена
Не знаете вы, баловни судьбы, как часто в больших городах счастье и безысходное горе, роскошь и нищета живут друг подле друга. Да и как вам знать это? Вы вокруг себя видите только дворцы и прекрасные дома; вы смотрите на все сквозь ясные зеркальные стекла ваших окон; мимо вас беспрестанно мелькают богатые экипажи, а суетящийся и вечно хлопочуший народ придает в глазах ваших только более жизни и разнообразия прекрасной картине. Вы не стараетесь проникнуть, понять причины этого беспрестанного столкновения роскоши и нищеты, шумного веселья и немого безотрадного горя, которое для вас не что-иное, как неизбежное смешение теней и света, необходимых для целости и красоты картины. Но чем больше станешь удаляться от центра города, тем шум, говор и жизнь все более и более уменьшаются; становится тише, глуше; дворцы и богатые палаты сменяются скромными домами, домиками и, наконец, лачужками, которые все реже и дальше стоят друг от друга. Богатство как бы ищет богатство, роскошь и величие стараются как можно теснее сблизиться; бедность же и несчастье почти всегда удаляются людей и даже друг друга, они как бы обречены одиночеству; оттого лачуги и стоят так далеко друг от друга; нет никаких интересов, никаких уз, которые связывали бы их обитателей; они все равно бедны, равно беспомощны, и поэтому равно склонны к самому жестокому эгоизму.
Вообще принимают, что богатство развивает эгоизм, но это потому, что на бедность обыкновенно смотрят только издали; она-то и есть самый родник эгоизма. Нравственная и материальная бедность и порождают своекорыстие и вместе с тем нужду и нищету. Проклятие бедности и заключается именно в том, что она ожесточает сердце человека, что нужда и лишения до того суживает круг наших чувств, что, наконец, вытесняют всякую более возвышенную мысль, всякое высокое чувство, и делают, что эгоизм, в самом черном своем виде, лучше всего уживается в лачугах. Эгоизм-то и есть высшее несчастье бедняка, потому что отстраняет от него всякую помощь, делая человека уж не жалости, а презрения достойным. Это, между тем, чаще всего встречается в больших городах, где между образом жизни богатых и бедных контраст гораздо резче. В деревнях, напротив, бедный относительно не так беден, потому что он не может делать таких горьких сравнений; он видит многих, которые так же бедны, как и он, и очень немногих богаче себя. Притом же в деревнях богатство не выказывается с таким оскорбительным тщеславием, с тою ослепительною роскошью, которые так глубоко уязвляют душу бедняка. Вот почему бедняк в деревне и не бывает таким бездушным эгоистом, как бедняки больших городов. Он не так одинок, не так покинут всеми. Под соломенною кровлею деревенской лачужки нередко встречаешь добродетель, безропотную покорность судьбе и спокойствие; в большом городе этого почти не бывает, и если вам там, каким-нибудь чудом, удастся встретить подобный необыкновенный феномен, человека, которого ни пример, ни зависть, ни несчастья или притеснения не могли испортить, то верьте, что это одна из тех чистых, высоких душ, которые могут перенести все страдания и горести, и все же останутся чистыми и светлыми.
Еслиб кому-нибудь, лет пятнадцать назад, вздумалось заглянуть в приход церкви Адольфа-Фридриха в Стокгольме, то он увидел бы множество подобных приземистых лачужек, с соломенными кровлями и крошечными окнами, сквозь тусклые стекла которых кое-где выглядывали бледные, исхудалые личики бедных малюток, которых угасший взор с каким-то тоскливым ожиданием устремлялся на пустую, немощеную и узкую улицу. – Моя маленькая повесть начинается в холодный зимний вечер. Темно. Узкая, немощеная улица, где живет плотник Лев, почти совсем пуста. Только изредка, вдоль длинного забора, тянущегося с одной стороны этого переулка, слышится шорох: это какой-нибудь жалкий бедняк, какой-нибудь пария, живущий нищенством, возвращается домой, ощупью пробираясь в потьмах; ни один фонарь не освещает его шагов, ставни всех лачуг закрыты – бедность не любит выставляться напоказ – и путь его так же мрачен, как и самая его жизнь. Между тем в конце улицы по-временам раздаются голоса и шум – там кабак, единственное увеселительное место околотка. Чрез расщелившиеся ставни окон увеселительного этого дома мерцает свет, и окрестность его всякий раз освещается, когда дверь отворяется, чтоб впустить нового посетителя, или выпроводить кого-нибудь, кого собравшаяся там компания не считает достойным находиться в её прекрасном обществе.
В доме плотника Лева почти темно; полусгнивший пень и несколько дощечек, украденных, или кое-где подобранных ребятишками, не могут дать большего пламени. Слабый красноватый свет едва освещает низкую, сырую комнату, и взор может только различать предметы, находящиеся вблизи очага; во там, в темном углу, слышно чье-то тяжелое дыхание. Не обращайте на это внимания – там лежит больной ребёнок и изнемогает от страданий – маленькое, бледное, увядшее существо, с голубыми, как лазурь, глазками, и мягкими, как шелк, ресницами, которое мечется на жесткой кровати, борясь со смертью.
Перед очагом сидит женщина, такая же бледная, как и малютка, но с мрачным, нахальным выражением в потухшем взоре. Если, однако ж, внимательно в нее вглядеться, если не обращать внимания на те уклонения от красоты, которые происходят от растрепанных волос, морщин, покрывающих лоб, и вообще всех следов, которые время и сильные, ничем не обуздываемые страсти начертали на её лице, если постараться представить себе, какою эта увядшая наружность должна была быть лет десять или двенадцать назад, то найдешь, что эта женщина в свое время должна была быть хорошенькая и даже очень хорошенькая девушка, с улыбкой амура и взором, выражавшим доброту и любовь. Бедность и лишения, между тем, теперь почти уже совершенно изгладили всю красоту; они дали лицу суровое выражение, которое было несвойственно ему; но душа её, от постоянной борьбы с жестокою, неумолимою судьбой, зачерствела, утратила чувствительность и была теперь холодна и тверда, как гранит. Бледная женщина кормит грудью ребенка, и взор её по временам с нежностью останавливается на этом маленьком существе; в ней еще не совсем умерли чувства, она еще кого-нибудь любит; правда любит не очень сильно, потому что часто желает, чтоб Бог прибрал малютку, но причиною этого желания не один только недостаток родительской нежности; оно скорее происходит от смутной, ей самой непонятной материнской любви, которая лучше желает видеть ребенка своего в могиле, чем обреченного на жизнь, исполненную нужды и угрызений совести, такую горькую жизнь, как была её собственная.
Мальчик лет десяти сидит на очаге и греет перед огнем посиневшие от холода руки; и он тоже бледен и имеет больной вид, но большие, темно-синие его глаза выражают доброту и нежность, резко противоречащие со всем окружающим его, его одеждой и образом жизни.
– Ну что, сказала наконец мать, взглянув на него: – ну что Лудвиг, сколько собрал ты сегодня? Ты, быть-может, даже и хлеба не принес, не только денег?
– Нет, маменька, отвечал мальчик, соскочив с очага: – я получил сегодня четыре больших ломтя хлеба и шестнадцать с половиною шиллингов; посмотрите сами, прибавил он, подавая ей мешок.
– Это хорошо, сказала мать, и взяв один из ломтей, принялась с жадностью есть, тщательно пересчитывая в то же время принесенные сыном деньги. – Так, Лудвиг, сказала она чрез насколько времени: – тут действительно шестнадцать с половиною шиллингов; сбегай же теперь скорее к Стине-Кайсе и купи мерку водки – склянка стоит там в углу на полке; да смотри, не разбей впотьмах чашки или молочника.
Мальчик повиновался и побежал с склянкой к жившей недалеко от них Стине-Кайсе, толстой старушке, которая тайком торговала водкой.
«Уж что ни говори, подумала мать, когда мальчик ушел, а сын мой, право, предобрый ребенок. Не будь его, Бог один знает, как бы мы еще существовали».
Лудвиг возвратился, и мать с расстановкой начала опорожнивать склянку; она пила с наслаждением, это была счастливая для неё минута. Лудвиг между тем тихонько подошел к больной сестре.
– Каково тебе, милая Сусанна? спросил он с участием: – очень ты больна?
– Да, Лудвиг, отвечала малютка, и начала маленькими, исхудалыми ручонками искать брата.
– Знаешь ли, торопливо продолжал мальчик шепотом: – знаешь ли, у меня есть гостинец для тебя; на, Сусанна, бери скорее – это яблоко.
– Ах, ах! яблоко, прошептала девочка, с наслаждением хватая яблоко: – да как ты это достал его?
– А вот, видишь ли как, начал рассказывать брат. – Я был сегодня у Рагвальдского моста; лед теперь очень слаб, и маленький мальчик, не больше меня, провалился; кроме меня никого не случилось вблизи, вот я и лег на брюхо на лед и пополз к нему, подал ему палку и так помог ему выбраться из воды. Надо же было, чтоб мать его, которая недалеко оттуда торгует яблоками, подошла в это время; она принялась благодарить меня, сказала, что я добрый мальчик, и дала мне те деньги, которые я принес матери, да еще большое яблоко. Ты можешь себе представить, как я обрадовался: я тотчас же закусил яблоко, да вспомнил тебя и подумал: «нет, лучше сберегу его Сусанне, оно ей, бедняжке, нужнее, чем мне».
– Спасибо, милый Лудвиг, сказала малютка. – Ах, Господи, как оно вкусно! Только бы, продолжала она: отец не вернулся теперь домой; прошлую ночь, когда его не было дома, мне так было хорошо: мне можно было лежать в кровати, а то опять придется валяться на полу, да дрогнуть.
– Не бойся, Сусанна, отец был в кабаке, когда я проходил мимо; там была страшная драка, и я слышал, как отец кричал и ругался; он, верно, сегодня не придет домой.
Между тем, как дети так шептались, мать делалась все веселее и веселее; наконец, она запела:
Я помню счастливое время!
ту песню, которую всегда пела, когда была весела и довольна; она выучила ее, когда жила в няньках у барона Риддаркорс, в прекрасном его имении Меллинге, и всегда с особенным удовольствием вспоминала о счастливых годах, проведенных там в довольстве и спокойствии: о нужде, несчастии и горе она тогда не имела и понятия. Когда она теперь певала эту песню, то ей казалось, что она снова находится в больших, прекрасных комнатах, где зеркала отражают её веселое, беззаботное лицо, что снова слышит звуки фортепиано и лестные о ней отзывы; она на время позабывала настоящее, забывала, что сидит в бедной, холодной и темной комнатке, перед очагом, на котором тлеют несколько полусгнивших дощечек, что поет окруженная голодной семьей; она была счастлива; лицо её в подобные минуты снова прояснялось, и глаза, как в былое время, снова искрились, снова выражали ум и беззаботное веселье.
Но мечты о её молодости были, на этот раз, внезапно прерваны самым неприятным образом: дверь с шумом отворилась настежь и холодной поток воздуха хлынул в комнату. Пьяный мужчина, одетый в старый, изорванный тулуп, вошел, раскачиваясь во все стороны.
– Ого, сказал он: – жена моя поет, видишь каково, поет проклятая, а мужа там канальи, разбойники, чуть до смерти не убили. Ты помнишь счастливое время – поздравляю тебя!
Говоря это, он опустился на край очага. – То был плотник Лев.
– Подложи скорее дров, слышишь ли, здесь темно, хоть глаз выколи.
Мечты бедной женщины разлетелись; исчезли высокие комнаты, большие зеркала, приятные звуки фортепиано, все, все исчезло, замолкло, и действительность, страшная действительность снова явилась перед нею.
– Подложить дров, отвечала она сердито: – а откуда прикажешь их взять? Когда ты плотничал и не пил, как теперь, с утра до ночи, у нас всегда было вдоволь щепы; теперь можешь быть рад, если не совсем без огня сидишь; дров нет, будь рад, если и гнилой пень горит.
– Что! ты браниться, что ли, со мною хочешь? закричал муж: – смотри не забывай, что если я примусь тузить, так тебе уж не придется больше спорить. Ну, что Сусанна, еще не умерла?
– Нет, отвечала мать: – она, к несчастью, все еще жива.
– Странно, право. Когда я вчера утром уходил, мне казалось, что она уж борется со смертью. Экая живучая, подумаешь. – А Лудвиг дома?
– Да, батюшка, я уж с полчаса как вернулся.
– А, это хорошо. Знаешь ли, сказал он, снова обратившись к жене: – ведь, я заключил сегодня выгодную сделку: я отдаю Лудвига из дома, он здесь ничего не делает, и…
– Этого никогда не будет, крикнула жена, вскочив со скамьи: – никогда, слышишь ли, никогда, пока я жива!
– Ха, ха, ха! это мы увидим, спокойно отвечал муж: – сама завтра же увидишь, как его у тебя из-под носу возьмут.
– Тогда и я и Сусанна с голоду умрем, снова начала жена: – Лудвиг всегда приносит что-нибудь домой, когда ходит просить милостыню.
– Ну, уж это как знаете. Есть захотите, так и хлеба добудете. А Лудвига я все же отдам в люди и получу тридцать рейхсталеров; он будет канатным плясуном, непременно будет.
– Канатным плясуном! Мой сын будет служить посмешищем для народа?
– Да, именно, именно твой сын, сказал плотник, хохоча во все горло: – сделка уже покончена. Лудвиг завтра же поступит к комедиантам, и мы получим за него тридцать рейхсталеров, да кроме того, комедианты будут угощать меня водкой все время, пока будут здесь.
– Так нет же вот, нет, Лудвиг не поступит к ним, воскликнула мать: – я этого не хочу, и только разве тогда соглашусь, если ты мне предоставишь получить деньги.
– Вот что, сказал плотник: – ну, это придется тебе отдумать. Сын мой – и деньги я возьму сам.
Говоря это, плотник встал и, пошатываясь, пошел к кровати.
– Это что еще, закричал он: – да вы никак девчонку сюда уложили. Долой ее сейчас!
Лудвиг быстро подбежал к кровати, взял сестру свою на руки и осторожно отнес ее в другой угол, где обыкновенно спал с нею на ветхом соломенном тюфяке. Отец бросился, не раздеваясь, на кровать и скоро захрапел, после трудов проведенного в пьянстве дня. Лудвиг, как мог, уложил бедную малютку, укрыл ее обрывком старого половика, служившего детям одеялом, и потом, улегшись возле неё, обнял, стараясь согреть и утешить ее.
– Ложись как можешь ближе ко мне, милая Сусанна, шептал он горько плачущему ребенку: – и перестань печалиться, Господь помогал стольким бедным детям. Вот так, хорошо. Теперь я тебе еще одеяло поправлю, а там спи себе спокойно; завтра я тебе опять достану яблоко, непременно достану, если б мне даже и самому пришлось идти под лед.
– А что со мною будет, что со мною будет, рыдая повторяла малютка: – когда тебя с нами не будет? Кто меня тогда приласкает, кто пригреет? Я буду тогда одна, совсем одна; отец и мать будут только клясть меня, зачем я не умираю. Ах, Лудвиг, ах, если б Господь сжалился надо мною и прибрал меня! продолжала она, заливаясь слезами и дрожа всем телом. – Ах! Если б мне умереть скорее!
– Так не надо говорить, Сусанна, учил ее брат: – это грешно. Маменька всегда это нам говорит, когда бывает добра.
– Батюшка и матушка спят, сказала Сусанна: – ах, если б и мне заснуть. Лудвиг, милый Лудвиг, любишь ли ты маленькую свою Сусанну? Будешь ты вспоминать обо мне, когда расстанешься с нами, жалеть о бедной сестре, которую, кроме тебя, никто не любит.
– Да, Сусанна, будь в этом уверена; я буду присылать тебе яблоки и груши, и даже деньги иногда; ведь Господь не оставит меня, в этом я уверен.
Скоро лепет детей стал делаться менее ясен, отрывист, и вскоре сон сомкнул их глаза; бедные малютки перестали чувствовать свое горе, свое одиночество.
– Не протягивайся так, Сусанна, друг мой, шептал Лудвиг, пробужденный на рассвете внезапным движением сестры: – половик короток и ножки твои озябнут.
Но Сусанна не отвечала и продолжала все более и более вытягиваться, руки её, обвивавшие шею брата, холодели. Вдруг они опустились.
– Что с тобою, милая Сусанна, что с тобою?
Но Сусанна не отвечала, и Лудвиг, при бледном свете утреннего сумрака, увидел, что длинные, шелковистые ресницы малютки оттеняют неподвижный, потухший взор, горестная улыбка выражалась на бледных устах, нежные члены ребёнка были холодны и тверды.
– Маменька! маменька! воскликнул Лудвиг, вне себя от горя – Сусанна умерла! Сусанна умерла!
Но мать храпела на полу, возле очага, и не слышала ег.о.
– Ах, милая моя Сусанна, продолжал мальчик, тряся сестру: – проснись, проснись на минуту, я тебе дам сколько хочешь яблоков, и сахару, и изюму, только проснись, не умирай. Но Сусанна не двигалась, и мольбы брата не могли тронуть, разбудить ее; для неё все было кончено. – Так Господь таки услышал твои молитвы, бедная моя Сусанна, сказал наконец мальчик, набожно сложа руки: – избавил тебя от страданий. – Покойся же с миром, прибавил он, целуя бледный лоб сестры.
Дети имеют собственную свою философию; они чувствуют так же глубоко и часто даже глубже взрослых, но они не умеют выразить того, что чувствуют; мысли их иероглифы, которые никто не может истолковать, но которые, тем не менее, все же имеют глубокое значение. Но так чувствовать могут только дети бедных, которые с самой колыбели принуждены бороться с нуждою, оспаривая у ней жизнь свою; вот почему они и знают, что такое жизнь и смерть. Лудвиг тоже хорошо понимал это, а ему, между тем, было всего десять лет.
Наконец родители проснулись; они очень хладнокровно выслушали рассказ о кончине Сусанны. Только мать выказала несколько чувства, когда, поднимая маленькую покойницу, чтоб одеть ее, сказала:
– Она счастлива, что убралась отсюда.
Отец, напротив, ничего не сказал и, по обыкновению, отправился со двора, чтоб снова провести весь день шатаясь по приятелям и питейным домам.
Лудвиг остался дома: он не хотел, не мог расстаться с Сусанною; смерть её глубоко потрясла его. Напрасно мать гнала его из дому, напрасно разорвала несколько новых дыр на бедном платье, которое казалось ей недовольно-изорванным, чтоб возбуждать жалость, напрасно стращала его и требовала, чтоб он непременно шел собирать милостыню, мальчик оставался ко всему холоден и бесчувствен; сложив на груди руки, он неподвижно стоял у тела сестры и думал глубокую думу. О чем он думал? Этого мы не знаем; быть может, он даже и сам того не знал.
Часов в одиннадцать плотник вернулся домой; он был уже порядочно-навеселе и очень словоохотен и весел.
– Ну вот, сказал он, входя: – теперь пора Лудвигу отправляться к комедиантам; я сейчас заходил к ним, и мне сказали, чтоб я привел его в двенадцать часов. Ну, Лудвиг, прощайся же с матерью и маленькою сестрою Дорою, которая кричит сегодня так, что бежать надо.
Молча подошел мальчик к матери; она обняла его, и он почувствовал, что несколько горячих слез скатились на его шею.
– Прощай, мой милый Лудвиг, сказала она, наконец, целуя его: – прощай. Пусть пример твоих родителей послужит тебе предостережением: сделайся ты, по крайней мере, добрым и честным человеком, а не… она не могла продолжать и приподняла маленькую Дору, которая поцеловала брата и выдрала его, как обыкновенно, за волосы. Доре было всего полтора года.
– Ну, сказал отец, теперь довольно. Я дам тебе денег на похороны, сказал он, обращаясь к жене. Да, черт меня побери, сама увидишь, какие знатные будут похороны: будет и кофе и пуншу вдоволь. Пойдем же теперь, Лудвиг, сказал он и, взяв за руку сына, потащил его из комнаты. Но когда они вышли на улицу, мальчик вырвался от него и снова вбежал в комнату: