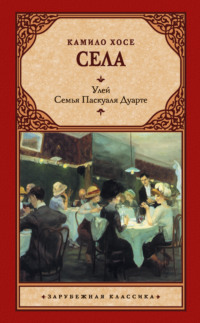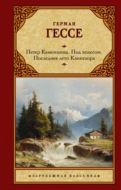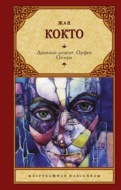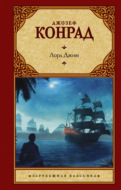Kitobni o'qish: «Улей. Семья Паскуаля Дуарте»
Camilo Jose Cela
LA COLMENA
LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE
Печатается с разрешения наследников автора и литературного агентства Antonia Kerrigan Literary Agency.
© Heirs of Camilo José Cela, 2002
© Перевод. Е. Меникова, 2020
© Перевод. Е. Лысенко, наследники, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Камило Хосе Села (1916–2002) – выдающийся испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе и главной национальной литературной награды Испании – премии Сервантеса. Камило Хосе Села считается одним из пионеров европейского литературного модернизма XX столетия, хотя первый грандиозный успех ему принес реалистический роман «Семья Паскуаля Дуарте», до сих пор занимающий первое место в Испании по количеству переводов на другие языки. В самой Испании роман издавался более 80 раз и считается абсолютной классикой.
Улей
Посвящается моему брату,
гардемарину Испанского флота
Мой роман «Улей», первая книга из цикла «Неверные пути», – всего лишь смутное отражение, бледная тень повседневной жестокой, волнующей и скорбной действительности.
Все, кто пытается приукрасить жизнь шутовской маской литературы, лгут. Недуг, разъедающий души, недуг, у которого столько имен, сколько придет нам в голову, нельзя исцелить грелками примиренчества, пластырями риторики и поэзии.
Роман мой не претендует дать что-либо большее – ни, разумеется, что-либо меньшее, – чем изображение куска жизни, рассказ о которой ведется шаг за шагом, без недомолвок, без удивительных трагедий, без сострадания – как идет сама жизнь, именно так, как идет жизнь. Хотим мы этого или не хотим. Жизнь есть то, что живет – в нас или вне нас; мы только ее носители, ее, как говорят фармацевты, основа.
Думаю, что в наше время нельзя писать романы по-другому – ни лучше, ни хуже, чем это делаю я. Думай я иначе, я бы переменил профессию.
По особым обстоятельствам мой роман выходит в Аргентинской Республике, здешние добрые ветры1, для меня непривычные, видимо, благоприятны для печатного слова. Архитектоника романа сложна, далась она мне нелегко. Конечно, причиной трудности равно могли быть и эта сложность и мое неумение. Действие происходит в Мадриде в 1942 году, в гуще людского потока, в некоем улье, где одни счастливы, другие нет. Сто шестьдесят персонажей, что проходят – но отнюдь не мчатся – на его страницах, вели меня пять долгих лет по дороге скорби. Удались они мне или нет, пусть судит читатель. Не знаю, как определить мой роман – реалистический он или идеалистический, натуралистический, бытописательский или еще какой-нибудь. Но меня это и не слишком тревожит. Можете наклеивать любые ярлыки – я человек, ко всему привычный.
Камило Хосе Села
Глава первая
– Важно одно – не забывать, с кем имеешь дело, только об этом я и твержу.
Донья Роса расхаживает между столиками кафе, задевая посетителей своим чудовищным задом. Донья Роса частенько произносит «Провались ты!» и «Хорошенькое дело!». Мир для доньи Росы – это ее кафе и все прочее, что находится вокруг ее кафе. Говорят, что, когда приходит весна и девушки надевают платья без рукавов, у доньи Росы начинают поблескивать глазки. Я думаю, все это болтовня: донья Роса не выпустит из рук серебряной монеты ни ради каких радостей жизни. Что весной, что осенью. Самое большое удовольствие для нее – таскать взад-вперед свои килограммы вот так, прохаживаясь между столиками. Когда остается одна, она курит дорогие сигареты и пьет охен2, опрокидывает рюмки охена одну за другой с утра до вечера. После каждой кашлянет и улыбнется. Когда у нее хорошее настроение, она усаживается в кухне на низком табурете и читает детективные романы – чтоб побольше крови, так интересней. Тут же шутит с прислугой, рассказывает об убийстве на улице Бордадорес или в андалузском экспрессе.
– Отец этого Наваррете был другом генерала дона Мигеля Примо де Риверы; пошел он к генералу, стал на колени и говорит: «Ваше превосходительство, ради бога, помилуйте моего сына», – а дон Мигель, хоть сердце у него было золотое, ответил: «Друг мой Наваррете, я не могу этого сделать, ваш сын должен искупить свои преступления смертью».
«Вот это люди! – думает она. – Надо же иметь такую твердость!» Лицо у доньи Росы все в пятнах, похоже, что она, как ящерица, постоянно меняет кожу. Задумываясь, она машинально сдирает с лица полоски кожи, иной раз длинные, как ленты серпантина. Потом, возвратившись к действительности, снова принимается ходить между столиками, заговаривая с посетителями, которых в душе ненавидит, и обнажая в улыбке неровные черноватые зубы.
Дон Леонардо Мелендес должен шесть тысяч дуро чистильщику обуви. Чистильщик глуп как сивый мерин – да и похож на чахоточного сонного мерина, – долгие годы он копил деньги, а потом возьми да и отдай все дону Леонардо взаймы. Так ему и надо, простофиле. Дон Леонардо – проходимец, живет тем, что выманивает у людей деньги и затевает аферы, которые никогда не удаются. Не то чтобы плохо удаются, нет, просто не удаются, ни хорошо, ни плохо. Дон Леонардо носит нарядные галстуки, мажет волосы фиксатуаром, очень пахучим фиксатуаром, издалека слышно. Вид у него барский и апломб невероятный, апломб человека, отлично знающего жизнь. Я бы не сказал, что он так уж ее знает, но в одном ему не откажешь – держится он, как человек, у которого в кошельке всегда есть бумажка в пять дуро. Кредиторам своим он плюет в лицо, а они, кредиторы-то, улыбаются ему и смотрят на него с почтением, по крайней мере внешним. Кое-кто, правда, подумывал подать в суд и припереть его к стенке, но почему-то до сих пор никто не отважился начать кампанию. Дон Леонардо ужасно любит щеголять французскими словечками, вроде madame, rue, cravate3, и повторять «мы, Мелендесы». Дон Леонардо – человек образованный, о чем хочешь может поговорить. Обычно он играет две-три партии в шашки, а пьет только кофе с молоком. Если увидит, что за соседними столиками курят сигареты, скажет этак деликатно: «Не найдется ли у вас курительной бумаги? Хотел свернуть сигаретку, да вот бумаги не оказалось». Ему, бывает, ответят: «Нет, но употребляю. А не хотите ли готовую сигарету?..» Дон Леонардо делает неопределенную гримасу и чуть медлит с ответом. «Ладно, выкурим для разнообразия. Мне, знаете ли, фабричные сигареты не очень по вкусу». А иногда сосед скажет только: «Нет, бумаги нет, очень сожалею», – и тогда дону Леонардо курить нечего.
Облокотясь на старый, пятнистый мрамор столиков, посетители едва глядят на проходящую мимо хозяйку, и смутные мысли проплывают у них в голове, мысли об этой жизни, где, увы, все складывается не так, как могло бы сложиться, где все понемногу приходит в упадок, а почему, никто даже не пытается объяснить, указать хоть самую ничтожную причину. Мраморные столешницы были прежде надгробными плитами, на некоторых еще сохранились надписи; слепой, проведя пальцами по нижней их стороне, мог бы прочитать: «Здесь покоятся бренные останки сеньориты Эсперансы Редондо, скончавшейся в расцвете юности» или «Почий с миром. Высокочтимый сеньор дон Рамиро Лопес Пуэнте. Заместитель министра в министерстве экономики».
Завсегдатаи наших кафе – это люди, считающие, что все идет как положено и не стоит труда пытаться что-либо улучшить. В кафе доньи Росы все посетители курят, и большинство размышляет о жалких, но приятных и волнующих мелочах, что заполняют или опустошают их жизнь. Одни молчат с мечтательным видом, как бы предаваясь смутным воспоминаниям; другие сидят с отсутствующим выражением лица, на котором блуждает улыбка, томная, умоляющая улыбка усталой твари; третьи молчат, подперев голову рукой, и взгляд их полон тихой грусти, как море в штиль.
Бывают вечера, когда разговор за столиками мало-помалу стихает, разговор о кошках и котятах, или о пайках, или об умершем мальчике, которого кто-то никак не может вспомнить, о том самом мальчике – ну как же вы не помните? – таком рыженьком, хорошеньком, худеньком малыше лет пяти, он еще всегда ходил в бежевой вязаной кофточке. В такие вечера чудится, что пульс кафе бьется неровно, как у больного, что воздух становится более плотным, более серым, хотя временами его пронизывает, будто молния, теплый ветерок, неизвестно откуда повеявший, ветерок надежды, который на секунду прорывается в душу каждого.
На дона Хайме Арсе градом сыплются опротестованные векселя, но он, несмотря ни на что, держится гордо. Даже не поверишь, до чего в кафе все известно. Дон Хайме, видите ли, попросил ссуду в каком-то банке, ссуду ему дали, и он подписал векселя. Потом случилось то, что должно было случиться. Он ввязался в дело, его обманули, он остался без единого реала, ему предъявили векселя, а он заявил, что не может их оплатить. Дон Хайме Арсе, судя по всему, человек честный, но неудачник, невезучий в денежных делах. Очень трудолюбивым его, правда, не назовешь, но вдобавок ему еще и не везет. Другие такие же лентяи, а может и похуже, сумели провернуть два-три выгодных дельца, нажили тысячи дуро, оплатили векселя и теперь покуривают дорогие сигары да разъезжают в такси. Дону Хайме Арсе судьба не улыбнулась, не повезло. Теперь он ищет себе занятие, но не находит. Он-то согласился бы взяться за любое дело, какое подвернется, да ничего стоящего не попадается, и он проводит дни в кафе, откинув голову на плюшевую спинку кресла и созерцая позолоту потолка. Иногда он мурлычет себе под нос модный мотивчик, отбивая такт ногой. Дон Хайме не любит думать о своих неудачах, по правде сказать, он вообще не привык о чем-либо думать. Взглянет на зеркала и скажет себе: «Кто это выдумал зеркала?» Потом уставится на кого-нибудь пристально, даже нагло: «Интересно, есть у этой женщины дети? Нет, верней всего, старая дева». «А сколько туберкулезных сидит сейчас здесь, в кафе?» Дон Хайме свертывает тонкую, как соломинка, сигарету и закуривает. «Есть такие мастера точить карандаши, что заострят грифель, как иголочку, и он не ломается». Дон Хайме меняет положение, он засидел ногу. «Загадочная штука – сердце! Тук-тук, тук-тук, и так всю жизнь, днем и ночью, зимой и летом».
У молчаливой женщины, которая всегда садится в глубине кафе, рядом с лестницей, ведущей в бильярдную, меньше месяца назад умер сын. Мальчика звали Пако, он собирался служить на почте. Сперва сказали, что у него паралич, потом разобрались, что не паралич, а менингит. Болел он недолго и сразу же впал в беспамятство. А он ведь уже знал все населенные пункты Леона, Старой Кастилии, Новой Кастилии и частично Валенсии (Кастельон да еще почти половину Аликанте); очень-очень жаль, что он умер. Пако постоянно прихварывал, после того как в детстве промочил зимою ноги. Мать осталась одна, другой ее сын, старший, странствует по свету неизвестно где. После обеда она приходит в кафе доньи Росы, садится у лестницы и часами сидит там, отогревается. С тех пор как умер ее сын, донья Роса очень с ней ласкова. Некоторым людям доставляет удовольствие проявлять внимание к тем, кто в трауре. Можно давать советы – надо, мол, смириться, не падать духом, – это очень приятно. Утешая мать Пако, донья Роса обычно говорит: «Чем остаться ему идиотом, лучше, что бог взял его к себе». Женщина смотрит на нее с покорной улыбкой и говорит, что, конечно, если хорошенько подумать, она права. Мать Пако зовут Исабель, донья Исабель Монтес, вдова Санса. Она еще недурна собой, ходит в слегка поношенном плаще. По виду – из хорошей семьи. В кафе относятся с почтением к ее горю, лишь очень редко кто-нибудь из знакомых, обычно женщина, по пути из уборной подходит к ее столику и спрашивает: «Ну как? Немного приободрились?» Донья Исабель улыбается и почти никогда не отвечает; если же чуть оттает, то поднимет голову, взглянет на приятельницу и скажет: «Какая вы сегодня хорошенькая, милочка!» Но чаще ничего не говорит, только махнет рукой, как бы прощаясь, и точка. Донья Исабель помнит, что она из другого круга, во всяком случае, чем-то отличается от здешних.
Немолодая девица подзывает продавца сигарет:
– Падилья!
– Иду, сеньорита Эльвира!
– Один «Тритон».
Она роется в сумочке, набитой давними похабными любовными записочками, и выкладывает на стол тридцать пять сентимо.
– Благодарю.
– Пожалуйста.
Она закуривает, выпускает длинную струю дыма, глаза ее затуманиваются. Немного погодя она снова зовет:
– Падилья!
– Иду, сеньорита Эльвира!
– Ты передал письмо тому человеку?
– Да, сеньорита.
– Что он сказал?
– Ничего. Его не было дома. Прислуга сказала, чтобы я не беспокоился, она обязательно передаст ему за ужином.
Сеньорита Эльвира молча продолжает курить. Нынче ей как-то не по себе, ее знобит, перед глазами все как будто колышется. Жизнь у сеньориты Эльвиры собачья – если хорошенько все взвесить, то и жить не стоило бы. Конечно, делать она ничего не делает, но из-за этого ей очень часто нечего есть. Она читает романы, ходит в кафе, покуривает сигареты – живет чем бог пошлет. Беда, что посылает он не очень-то густо, да к тому же всегда что-нибудь завалящее и никчемное.
Дону Хосе Родригесу де Мадрид выпал выигрыш в лотерее, в последнем тираже. Друзья говорят ему:
– Привалило счастье, а?
Дон Хосе отвечает всем одно и то же, как будто на память заучил:
– Ба, восемь паршивых дуро!
– Ладно, ладно, уж вы не объясняйте, мы у вас ничего не попросим.
Дон Хосе – судейский писарь, у него, видимо, кое-что накоплено. Еще говорят, что он женился на богатой девушке из Ла-Манчи, да жена вскоре умерла и все оставила дону Хосе, а он поспешил продать и четыре виноградника и два участка с оливами: сельский воздух, говорит он, плохо действует ему на дыхательные пути, а беречь здоровье – это главное.
В кафе доньи Росы дон Хосе всегда заказывает рюмочку – он не какой-нибудь пижон или голодранец из тех, что пьют кофе с молоком. Хозяйка глядит на него с нежностью, их объединяет пристрастие к охену. «Охен – лучший в мире напиток; превосходное желудочное, мочегонное и общеукрепляющее; он очищает кровь и предотвращает импотенцию». Дон Хосе всегда выражается очень складно. Однажды – это было несколько лет тому назад, вскоре после конца гражданской войны, – поспорил он со скрипачом. Народ вокруг в один голос уверял, что прав был скрипач, но дон Хосе позвал хозяйку и сказал: «Или вы дадите пинка под зад этому красному, этому нахалу и безобразнику, или ноги моей в вашем кафе не будет». Тогда донья Роса прогнала скрипача, больше о нем не слышали. Посетители же, раньше стоявшие на стороне скрипача, изменили мнение и в конце концов уже стали говорить, что донья Роса очень правильно поступила – да, тут надо было действовать твердой рукой, проучить наглеца. «Дай только им волю, мы бог знает до чего докатимся!» Произнося эти слова, посетители делали строгое, даже негодующее лицо. «Необходима дисциплина, иначе невозможно создать что-либо основательное, по-настоящему прочное», – слышалось за столиками.
Пожилой мужчина громогласно рассказывает, какую шутку он отколол – наверно, полвека назад – с некой мадам Тру-ля-ля.
– Эта идиотка думала меня облапошить. Да-да! Продувная была бестия! Я пригласил ее выпить белого, и, когда выходили мы на улицу, она как стукнется физией об дверь. Ха-ха-ха! Кровь течет, будто быка режут. А она: «О-ля-ля, о-ля-ля» – и пошла себе, а у самой все нутро выворачивает. Пропащая была бабенка, всегда пьяная! Потеха, да и только!
За соседними столиками несколько лиц глядят на него чуть ли не с завистью. Это лица людей, которые улыбаются мирно и благодушно лишь в те минуты, когда они незаметно для самих себя перестают думать о чем бы то ни было. Люди угодливы от глупости, иногда они улыбаются, испытывая в душе безмерное отвращение, такое отвращение, что его едва удается скрыть. Из угодливости можно и человека убить; не одно преступление было, я думаю, совершено, чтобы не испортить отношений, чтобы кому-то угодить.
– Всех этих прощелыг нечего жалеть; мы, порядочные люди, не должны допускать, чтобы они нам на шею садились. Еще отец мой говаривал: хочешь винограду, так поработай на винограднике. Ха-ха! Плутовка эта больше и носу не казала!
Между столиками проходит жирный, лоснящийся кот; кот, пышущий здоровьем и благополучием; кот чванный и надменный. Он залезает под ноги одной даме, та в испуге вскакивает.
– Проклятый кот! Пошел вон!
Рассказчик веселой истории ласково ухмыляется.
– Ну что вы, сеньора! Бедный котик, чем он вам помешал?
Средь шума и гама длинноволосый юнец сочиняет стихи. Он в экстазе, ничего не видит и не слышит – только так и создаются прекрасные стихи. Станешь глазеть по сторонам, улетучится вдохновение. Да, вдохновение – это что-то вроде слепого, глухого, но очень яркого мотылька; иначе многое было бы непонятно.
Юный поэт сочиняет длинную поэму под названием «Судьба». Чуточку он, правда, колебался, не назвать ли ее «Моя судьба», но потом, посоветовавшись с поэтами более зрелыми, решил, что лучше озаглавить просто «Судьба». Так короче, многозначительней, загадочней. Кроме того, с названием «Судьба» поэма становится более емкой, более – как бы это сказать? – неопределенной, более поэтичной. Тут сразу не поймешь, пойдет ли речь о «моей судьбе», или о «судьбе вообще», или об «одной судьбе», «туманной судьбе», «роковой судьбе», «счастливой судьбе», «радужной судьбе» или же «загубленной судьбе». Да, «Моя судьба» больше связывает, меньше оставляет простора воображению, а оно должно порхать свободно, безо всяких пут.
Над своей поэмой юный поэт трудится несколько месяцев. У него уже готовы триста с лишним строк, тщательно нарисован макет будущего издания и составлен перечень возможных подписчиков, которым в свое время будут разосланы бланки с предложением оплатить издание. Он уже и шрифт выбрал (простой, четкий, классический шрифт, удобный для чтения, ну, скажем, бодони), и обоснование нужного ему тиража сочинил. Однако юного поэта еще мучают два вопроса: ставить или не ставить «Laus Deo»4 после выходных данных и писать ли самому или не писать самому биографическую справку, которую помещают на клапане суперобложки.
Донью Росу, сами догадываетесь, не назовешь нежной родственницей.
– Сколько раз повторять одно и то же! Хватит мне лодырей, а тут еще зятек пожаловал. Грязный подонок! Вы, Пепе, еще совсем несмышленый, понятно? Совсем несмышленый. Хорошенькое дело! Где это видано, чтобы такой нахал, человек без образования, без совести, расхаживал здесь, кашлял и топал, как важный барин? Нет, я этого не потерплю, богом клянусь!
Усы и лоб доньи Росы покрылись капельками пота.
– А ты, остолоп, уже бежишь за газетой для него! Э нет, таким типам здесь нечего ждать ни уважения, ни любезности! Когда-нибудь я-таки выйду из себя, и всем вам здесь солоно придется! Ну где это видано?
Донья Роса впивается своими крысиными глазками в Пепе, старого официанта, лет сорок или сорок пять тому назад приехавшего в столицу из Мондоньедо. Глядящие сквозь толстые стекла пенсне глаза доньи Росы похожи на удивленные глаза птичьего чучела.
– Чего уставился на меня?! Ну чего ты уставился? Дурень! Как приехал сюда дурнем, так и остался! Нет, вас, деревенских, видно, никакими силами не проймешь! Ну же, проснись, и хватит нам ссориться. Будь ты капельку смышленей, я уже давно выставила бы тебя на улицу! Понятно? Вот и весь сказ!
Донья Роса гладит себе живот и снова обращается к Пепе на «вы».
– Ступайте, ступайте… Но помните – каждому свое. Я же всегда говорю, надо не забывать, с кем имеешь дело, оказывать уважение людям – понятно? – уважение.
Донья Роса вскинула голову и глубоко вздохнула. Волоски на ее верхней губе, воинственно вздрогнув, стали торчком, торжествующе, гордо, как усики спесивого и влюбленного кузнечика.
В воздухе будто разлита грусть, она просачивается в сердца. Но стонов не исторгает, сердца могут страдать безмолвно час за часом, всю жизнь, и никто из нас никогда не узнает, не поймет, что в них творится.
Старик с седой бородкой, макая в кофе с молоком кусочки сдобной булки, кормит смуглого малыша, которого держит на коленях. Старика зовут дон Тринидад Гарсиа Собрино, он ростовщик. Молодость дона Тринидада прошла бурно, было немало всяких осложнений, метаний, но, когда умер его отец, он сказал себе: «Впредь надо быть похитрей, Тринидад, не то останешься в дураках», – пустился в деловые комбинации, преуспел и разбогател. Мечтой всей его жизни было стать депутатом, он полагал, что оказаться одним из пятисот на двадцать пять миллионов – это очень даже лестно. Несколько лет дон Тринидад заигрывал с третьестепенными деятелями из партии Хиля Роблеса5, надеясь, что они помогут ему стать депутатом – от какой местности, безразлично, тут пристрастий у него не было. Немало денег было выброшено на ужины, пожертвовано на пропаганду, немало выслушано лестных слов, но в конце концов никто не выставил его кандидатуру, даже на банкет к главе партии не пригласили. Дон Тринидад пережил тяжкие минуты, серьезный душевный кризис и с горя стал лерруксистом6. В республиканской партии он чувствовал себя неплохо, но тут грянула война и пришел конец его не слишком блестящей и недолгой политической карьере. Теперь дон Тринидад живет вдали от «общественных дел», как выразился в тот памятный день дон Алехандро; он доволен уж тем, что его не трогают, не напоминают о прошлом, и он может спокойно заниматься выгодным делом – ссудами под проценты.
Он заходит с внуком в кафе доньи Росы днем, кормит малыша завтраком и молча слушает музыку или читает газету – в разговоры ни с кем не вступает.
Донья Роса с улыбкой опирается на столик.
– Что скажете, Эльвирита?
– Сами видите, сеньора, ничего нового.
Сеньорита Эльвира, слегка склонив голову набок, посасывает сигарету. Щеки у нее в морщинах, веки красные, будто воспаленные.
– Там что-нибудь вышло?
– Где?
– Да с этим…
– Нет, расклеилось. Три дня со мной походил, а потом подарил флакон лака для волос.
Сеньорита Эльвира улыбается. Донья Роса скорбно прикрывает глаза.
– Да, милая моя, есть на свете бессовестные люди!
– А, плевать!
Донья Роса наклоняется и говорит ей почти на ухо:
– Почему вы не поладите с доном Пабло?
– Потому что не хочу. У меня тоже есть гордость, донья Роса.
– Вот еще новости! У каждой из нас есть свои причуды! Но уверяю вас, Эльвирита, – а вы знаете, я желаю вам только добра – с доном Пабло вам было бы неплохо.
– Не думайте. Он очень требовательный. Да к тому же зануда. Под конец я его просто не выносила – что поделаешь! – он мне стал противен.
Голос доньи Росы становится вкрадчивым, убеждающим – она дает совет:
– Надо иметь терпение, Эльвирита! Вы еще совсем дитя!
– Вы думаете?
Сеньорита Эльвира сплевывает под стол и обтирает рот краем перчатки.
Разбогатевший издатель по фамилии Вега, дон Марио де ла Вега, покуривает огромную, будто для рекламы сделанную сигару. Человек за соседним столиком пробует подольститься.
– Отличная у вас сигара!
Вега, не глядя на него, с важностью отвечает:
– Да, неплохая, но и обошлась она мне в целый дуро.
Человек за соседним столиком, тщедушный и улыбающийся, с удовольствием сказал бы что-нибудь вроде: «Кому же, как не вам, их курить?» – да не посмел, устыдился, и, к счастью, вовремя. Глядя на издателя, он снова заискивающе улыбнулся и сказал:
– Всего один дуро? Я думал, не меньше семи песет.
– Да нет же, один дуро да тридцать сентимо на чай. Мне это по карману.
– Еще бы!
– Э, бросьте! Чтобы курить такие сигары, я полагаю, вовсе не надо быть графом Романонесом.
– Романонесом, конечно, не надо быть, но, видите ли, я, например, не могу этого себе позволить, а также многие из тех, кто здесь сидит.
– Вы хотели бы закурить такую же?
– О, что вы!..
Вега усмехнулся, как бы заранее сожалея о своих словах:
– Так потрудитесь, как тружусь я.
Издатель разражается бурным, оглушительным хохотом. Тщедушный, улыбающийся человек за соседним столиком перестал улыбаться. Он весь покраснел, он чувствует, что у него уши горят и в глазах щиплет. Он потупил взгляд, чтобы не видеть, как на него смотрят все в кафе, ему, во всяком случае, чудится, что все в кафе на него смотрят.
Меж тем как дон Пабло, этот гнусный тип с грязными мыслями, хохочет, рассказывая историю про мадам Тру-ля-ля, сеньорита Эльвира швыряет на пол окурок и ногой гасит его. Да, сеньорита Эльвира иной раз держится, как настоящая принцесса.
– Ну, чем помешал вам этот котик? Кис-кис, на, на!..
Дон Пабло глядит на даму.
– Просто удивительно, до чего кошки умные! У них разума больше, чем у некоторых людей. Эти животные все-все понимают. Кис-кис, на, на!..
Кот удаляется не оборачиваясь и скрывается в дверях на кухню.
– У меня есть друг, человек денежный и с большим влиянием – не подумайте, что какой-нибудь голоштанник, – так у него персидский кот по кличке Султан, это просто чудо.
– Да?
– И еще какое чудо! Хозяин говорит: «Султан, иди сюда», – и кот подходит да хвостом своим этак помахивает пышным, будто плюмажем. Говорят ему: «Султан, пошел вон», – и, пожалуйста, Султан с достоинством удаляется, как важная персона. Все движения у него такие степенные, а шерсть – чистый шелк. Я думаю, немного сыщется таких котов; этот кот среди прочих котов, что герцог Альба среди прочих людей. Мой друг любит его, как ребенка. Ну понятно, и кот ведет себя так, что его нельзя не любить.
Дон Пабло обводит глазами кафе. На одно мгновение взгляд его скрещивается со взглядом сеньориты Эльвиры. Дон Пабло, моргнув, отворачивается.
– А какие кошки ласковые! Вы замечали, какие они ласковые? Если к кому привяжутся, так уж на всю жизнь.
Дон Пабло слегка откашливается и говорит тоном строгим, внушительным:
– Не мешало бы взять с них пример кое-кому из людей!
– Да, вы правы.
Дон Пабло глубоко вздыхает. Он доволен собой. В самом деле, эти слова насчет того, что «не мешало бы взять пример» и т. д., прозвучали у него великолепно.
Пепе, официант, уходит, не говоря ни слова, в свой угол. Здесь он у себя дома – он кладет руку на спинку стула и смотрит на себя в зеркала, словно на какую-то диковину.
В ближайшем зеркале он – в фас; в зеркале противоположном – его спина; в боковых – его профили.
– Чтоб ей, ведьме старой, утонуть в канаве, да чтоб ее дохлой оттуда вытянули! Свинья! Лиса старая!
Пепе – человек отходчивый, ему достаточно сказать про себя одну-две фразы, которые он никогда бы не осмелился произнести вслух:
– Живодерка! Свинья! Чтоб тебе сухой коркой питаться!
Когда Пепе не в духе, ему нравится отпускать вот такие короткие ругательства. Потом он отвлечется то тем, то другим и под конец обо всем забудет.
Двое малышей лет четырех-пяти уныло, без всякого энтузиазма играют меж столиками в поезд. Двигаясь в глубину кафе, один изображает паровоз, другой – вагон. Когда возвращаются к входной двери, роли меняются. Никто не обращает на них внимания, но они бесстрастно и безрадостно продолжают играть, курсируя взад-вперед с жуткой серьезностью. Это мальчики паиньки и умники, мальчики, которые – хоть скучно им до смерти – играют в поезд, потому что решили развлечься, а чтобы развлечься, решили – хоть ты лопни – играть в поезд до самого вечера. Если развлечение не удается, они-то чем виноваты? Они делают все, что могут.
Пепе смотрит на них и говорит:
– Осторожней, еще упадете…
Хотя Пепе уже с полвека живет в Кастилии, в его речи чувствуется галисийский акцент. Мальчики отвечают: «Нет-нет, не упадем, сеньор», – и игра продолжается – без веры, без надежды, без радости, словно они исполняют тягостный долг.
Донья Роса вваливается на кухню.
– Габриэль, сколько унций кофе ты всыпал?
– Две, сеньорита.
– Вот видишь! Видишь! Ну кто это может вынести! А потом, того и гляди, начнешь болтать об условиях труда и черт знает о чем еще! Разве не сказала я тебе, чтобы не сыпал больше полутора унций? Нет, с вами нельзя говорить просто и ясно, вы ничего понимать не желаете.
И донья Роса, отдуваясь, заводит свою шарманку. Пыхтит она, как паровоз, неровно, прерывисто, вся ее туша вздрагивает, и в груди что-то с присвистом клокочет.
– А если дону Пабло кажется, что кофе жидкий, пусть отправляется со своей супружницей туда, где ему подадут лучший. Хорошенькое дело! Где это видано! Этому болвану несчастному, должно быть, неизвестно, что посетителей у нас хоть отбавляй. Понятно тебе? Если ему не по вкусу, пусть убирается – нам это не в убыток. Подумаешь, персона какая! Жена его настоящая гадюка, мне уже тошно на нее смотреть. Прямо-таки тошнит от этой доньи Пуры!
Габриэль, как обычно, успокаивает ее.
– Вас могут услышать, сеньорита!
– Пускай слушают, если хотят. Для того и говорю. У меня рот не на замке! А вот чего я не пойму – почему этому остолопу вздумалось порвать с Эльвиритой? Ведь не девушка – ангел, только и думала, чтобы ему угодить, и как он, точно баран, терпит эту скандалистку донью Пуру, эту гадюку, которая вечно исподтишка хихикает. Но, как говорила моя матушка – царство ей небесное! – поживем – увидим!
Габриэль старается замять конфликт.
– Если хотите, я немножко отсыплю.
– Ты и сам знаешь, как должен поступать человек порядочный и толковый – не вор, нет. Когда хочешь, ты отлично понимаешь, как надо себя вести!
* * *
Падилья, продавец сигарет, беседует с новым посетителем, покупающим целую пачку табаку.
– И что, всегда так?
– Всегда, но она не злая. Вспыльчива немного, но, в общем, не злая.
– Но она же назвала этого официанта дурнем!
– А, большое дело! Иной раз она и нас обзывает лодырями и красными.
Новый посетитель не верит своим ушам.
– И вы так спокойно к этому относитесь?
– Да, сеньор, совершенно спокойно.
Новый посетитель пожимает плечами.
– Странно, странно…
Падилья идет в очередной обход по залу.
Посетитель задумывается.
«Не знаю, кто из них гнусней – эта жирная свинья в трауре или это сборище баранов. Взяли бы ее как-нибудь за шиворот да всыпали все вместе как следует, она бы уж точно присмирела. Да где там! Трусят. В душе небось с утра и до ночи посылают ее куда подальше, но вслух – боже упаси! «Убирайся, дурень! Вор, бездельник!» А они в восторге. «Да, сеньор, совершенно спокойно». Все понятно! Да пошли они все к черту, противно на них смотреть!»
Посетитель задумчиво курит. Его зовут Маурисио Сеговия, служит на телефонной станции. Спешу это сообщить, так как он, наверно, сейчас уйдет. Ему лет тридцать восемь – сорок, рыжий, лицо все в веснушках. Живет он далеко, в Аточе, а в этом районе оказался случайно – пошел следом за незнакомой девчонкой, а та, прежде чем Маурисио решился с ней заговорить, вдруг возьми да и сверни за угол и исчезла в каком-то подъезде.