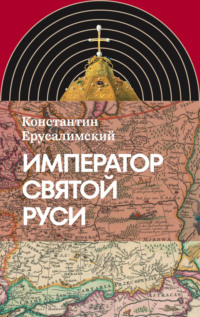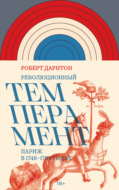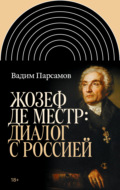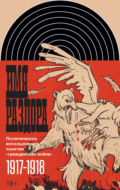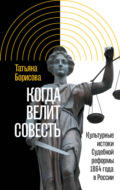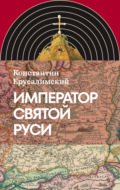Kitobni o'qish: «Император Святой Руси»
УДК [94(47+57)«14/17»]:316.75
ББК 63.3(2)4-72
Е79
Редакторы серии «Интеллектуальная история»
Т. М. Атнашев и М. Б. Велижев
Константин Ерусалимский
Император Святой Руси / Константин Ерусалимский. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Интеллектуальная история»).
Каким был идейный кругозор, идеология, коллективные представления Московского царства XV – начала XVIII века? Насколько широк был круг сторонников «высоколобых» учений и насколько осмысленны были понятия политической культуры? Можно ли говорить о Российском государстве этого периода как об империи, монархии, республике? Кем считали себя подвластные этой страны, какие коллективные идентичности считали для себя значимыми? Почему в дополнение к летописанию, а отчасти на смену ему пришел такой жанр самосознания, как история, и как отличалось прошлое историков от прошлого летописцев и хронистов? В фокус исследования вошли такие идеологемы, как народ и Святая Русь, царь и император, постапокалиптическая история и Третий Рим, и такие формы коллективного политического действия, как дело народное, общая вещь, гражданство. Несмотря на немодерные технологии коммуникации, интенсивное сакральное чтение и неустойчивость доктрин суверенитета, российская культура была в этот период легитимной частью ренессансного мира, чему свидетельством служат как полемические сочинения, словарные и исторические высказывания интеллектуалов, памятники церемониальной, исторической, политической и бытовой мысли, так и следы рецепции событий в мире, анонимные дискурсы, визуальные репрезентации настоящего и прошлого. Московское царство втягивалось и в одну из наиболее значимых дискуссий модерной эпохи – о разоружении как необходимом условии гражданской жизни. Константин Ерусалимский – доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.
На обложке: Солнцев Ф. Г., Дрегер Ф. Шапка Мономахова, или Венец великих князей и царей русских. Изображение 1. Древности Российского государства. [Иллюстрации]. [Москва]: хромолит. Ф. Дрегера, [1851]. РНБ, Санкт-Петербург. Николас Висхер I. Генеральная карта Московии или Великой Руссии. Амстердам, 1677–1679 гг. Рейксмузеум, Амстердам.
ISBN 978-5-4448-2822-9
© К. Ерусалимский, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Введение
Как Авраамий Палицын трижды спас Россию
24 августа по юлианскому календарю (3 сентября по григорианскому) 1612 г. Авраамий Палицын совершил подвиг, который вошел в канон деяний, спасших Россию от Смуты. Келарь Троице-Сергиева монастыря, ранее прославившийся в обороне Сергиевой обители от войска Яна-Петра Сапеги и поддержавший кандидатуру королевича Владислава Жигимонтовича на российский престол, ко времени, когда отряды Яна-Кароля Ходкевича достигли предместий Москвы, перешел на сторону повстанцев, выступивших против кремлевского гарнизона и боярского руководства страны. Подготовка к сражению с войском Ходкевича шла ни шатко ни валко. И вот когда казаки Первого ополчения под командованием князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого отказались идти на помощь отступавшим воинам Второго ополчения, то князь Дмитрий Михайлович Пожарский и посадский человек Кузьма Минин послали за Авраамием, «зовуще его в полки к себе»1.
Старец молился перед иконой Сергия и Никона Радонежских, но все же последовал призыву. Пожарский, Минин и множество дворян упросили со слезами келаря отправиться в острог к бездействующим казакам. В окружении отряда дворян Авраамий поспешил к храму Климента Папы Римского. Хорошо понимавший психологию воинов и не раз уже побывавший в гуще сражений, Авраамий обратился к казакам с похвалой за их прежние подвиги. И от нее, по всем правилам ораторского искусства, перешел к тревожному вопросу:
Ныне ли, братие… вся та добраа начатиа единем временем погубити хощете?2
Казаки умилились, обещали «вси умрети», а разгромить врагов, – и призвали келаря идти в жилища тех, кто просиживал, отказываясь выступать. Авраамий пошел на поиски подкреплений и нагнал отряд («множество казаков») у Москвы-реки рядом с Никитской церковью на переправе. Они возвращались в свои станы. Авраамий умолил воинов отправиться на бой. Еще неоднократно монах в тот день обращался к казакам, находя их кого у реки, кого у торгов («лав»), и всех, по его словам, удалось уговорить пострадать за Имя Божие, за православную истинную христианскую веру и за Сергия Радонежского. Когда пришли вести о победе, а Ходкевич с оставшимися ротами отступил на Воробьеву гору, келарь поспешил с вестью к Пожарскому:
И тако благодаряще Бога и великое заступление Пречистыя Его Богоматере и молитвы великих святителей московских Петра и Алексея, и Ионы, и великого чюдотворца Сергиа, и прочих святых, и поидошя ко образу Святыя Живоначалныя Троица и Пресвятыа и Пречистыя Богородица, и великих чюдотворцов Сергиа и Никона, идеже прежде молебнаа совершаху, и с ними множество дворян и детей боярских и всех чинов множество народа; и певше молебнаа, благодаряще Бога и разыдошяся радующеся3.
Это был не последний подвиг Авраамия. И в его согласии, отступив от своего иночества, ринуться на спасение православия, и в обращении к воинам на поле боя и в казацких станах, и в том, как он описывает богомольную процессию на весть о победе над ратью Ходкевича, трудно предвидеть его следующие поступки – и то, что Авраамий наряду с Мининым будет командовать штурмом Кремля через два месяца после этих событий, и то, что после объявления царем Михаила Романова вновь обратится к воинам, среди которых многие слушали его речи на подступах к Москве, и потребует от них сложить оружие…
***
В приведенном рассказе читатель, даже не обладая техниками интерпретации исторических источников, может почувствовать несколько ловушек и упрощений. Почему руководители Второго ополчения отказались продолжать официальные переговоры с лидерами Первого ополчения и прибегли к ultima ratio в лице троицкого келаря? Почему он сам говорит о том, что послужил последней надеждой, как если бы слезно просящие его о помощи ополченцы были не способны повлиять на ситуацию и решить исход сражения могли уже только Бог, Богородица и сонм святых? Почему казаки у Клементьевской церкви умилились, но направили Авраамия к другим казакам, а не сделали это сами, до его прихода и вместо него? Почему Авраамий не стесняется присвоить себе славу первого свидетеля победы над войском Ходкевича, как если бы весь бой велся под его командованием или ему сами победители присвоили эту победу, его устами сообщив о ней Пожарскому? Наконец, почему победа вызвала торжественную многолюдную процессию и молебен, после которого все в радости разошлись? И кто были эти люди?
Ответить на эти вопросы позволит нам осмысление идеологических оснований российской жизни начала XVII в. Их невозможно рассмотреть в отрыве от сознания людей более широкого периода и живших далеко не только в России. Обращаясь к идеологии Московского царства, мы оказываемся перед множеством взаимосвязанных трудностей, преодолевать которые нам предстоит в сочетании исследовательских методов. В целом лишь отчасти эти трудности вызваны недостатками самих методов. Есть ряд особенностей идейного мира, ментальностей и отношений с символическим у жителей Российского государства XV–XVIII вв., без предварительного понимания которых мы не сможем уловить ту грань, которая отделяет читательские усилия нашего времени от людей того, уже во многом утраченного мира.
В целом изучаемая в этой книге эпоха наполнена не-модерными этосами и ментальностями, религиозным инструктированием, богатым разнообразием опытного, и в том числе ритуального, взаимодействия между людьми, в котором тексты и дискурсы выполняли скорее вспомогательную роль, а потому сами являются не столько отражением событий, сколько их вовлеченным воспроизведением. О не-модерне следовало бы говорить как о дискуссионном рабочем термине, описывающем все разнообразие культур, не включившихся в игру означающих вокруг построения современности и нового мира. Данный термин позволяет избежать открытой в рамках теории модернизации дихотомии модерный/до-модерный, но в то же время термин не-модерн неуместен в тех случаях, когда культурные контакты с мирами модерна и идеями модернизации все же имели место. Кроме того, идея модерна в Европе, как показал Ханс-Роберт Яусс, тесно связана с воскрешением, освоением, воплощением и преодолением античности – локальной культурной практикой, далекой от российских реалий XIV–XVII вв.4
Впрочем, вслед за Брюно Латуром мы могли бы, читая и просматривая источники Российского царства XV – начала XVIII в., задаться вопросами, которые французский теоретик задает в связи с переменами, наступившими в результате полемики Роберта Бойля с Томасом Гоббсом – полемики, повлекшей за собой приход в культуру ученого представителя молчаливых вещей и суверенного представителя молчаливого народа:
А что если ученые говорят о самих себе, вместо того чтобы говорить о вещах? А что если суверен преследует свои собственные интересы, вместо того чтобы следовать сценарию, написанному для него его доверителями?5
Мы не знаем аналогов полемики Бойля и Гоббса в России, однако может оказаться, что какой-то из пунктиров в границах модерна возник не в силу сетевых процессов, а взрывным усилием, и российские интеллектуалы могли бы «проскочить» в полуоткрытые процессы, которые они сами не изобрели. Несмотря на популярность метафоры идейной борьбы среди исследователей российского «Долгого XVII в.», выработанные в византийско-русском христианстве формы самосознания не приветствовали разномыслия и разбалансировки готовых решений. С. С. Аверинцев показал, что в Византии даже теория риторики не приветствовала «ситуацию спора»6. Люди Московской Руси не делали ставку на разногласия и разномыслие, как и на игры фортуны, и не воспринимали свои решения как повышение и понижение ставок. По крайней мере, прежде чем делать обратный вывод, даже если он иногда напрашивается, следовало бы сначала обдумать другие возможности.
Привычные для читательской индивидуализированной эпохи грани между общезначимым и субъективным в не-модерной культуре не столь ощутимы, а иногда и полностью стерты, и мы обязаны постоянно задаваться вопросом, является интеллектуальный продукт индивидуальным усилием или же бездумным заимствованием, нередко осмысляемым в рамках узких задач. Идеи не есть ни результат индивидуальной мысли, ни коллективное усилие мыслящих групп и классов. Видеть в идеях не-модерного мира концептуальные единства неоправданно ограничивало бы предмет исследования. Обилие методик идеологического анализа выросло в рамках обновленной интеллектуальной истории мысли и, прежде всего, ее политических форм7. Возникло – уместное и в нашем исследовании – недоверие в отношении «идейной» истории идей. На ее место все чаще приходила социальная наука об идеях, как выразился Ален Буро, социальная история идей8.
Благодаря исследованиям Джона Данна, Джона Покока, Квентина Скиннера, Филиппа Петтита, их коллег и критиков удалось, учитывая тенденции в философско-политической мысли, пересмотреть сам подход к модерным политическим доктринам, вывести их за рамки «предыстории идей», то есть того направления, которое встраивало модерную мысль в генеалогии современных идеологических программ, лишая их тем самым собственных логик и какой-либо самости9. Как правило, выведение идеологий за принятые в межвоенном и послевоенном мире рамки классических идеологий означало переосмысление ключевых понятий, исключение целых шлейфов интерпретации, главным образом иллюзорных «предысторий». Как уже говорилось, мы в данной работе имеем дело в основном не с доктринами, а с не-модерными идеологиями, обнаружение которых является задачей не столько герменевтики, сколько интеллектуальной археологии. Однако, несмотря на это, метод Кембриджской школы применим для части задач нашего исследования и будет неоднократно упомянут ниже.
Сам институт авторства не выражен, и ряд ценных для нашего исследования памятников атрибутированы неточно, анонимны, а чаще всего – бытуют в различных редакциях, из которых лишь часть принадлежат автору, а остальные являются результатом редакционных или корректорских правок. Культура Московской Руси, несмотря на воздействие на нее европейских и иных тенденций, опирается на рукописную трансляцию текстов, а следовательно, немало озабочена точностью транслируемых в них сообщений. Архивы и рукописные собрания той поры безжалостно прорежены пожарами, условиями хранения и обстоятельствами бытования источников, и нам не решить большинства проблем при помощи репрезентативной выборки. Сфера идей поддается заведомо частичной интерпретации путем идейной же контекстуализации. Это не значит, что невозможны более или менее вероятные оценки и истинные суждения. Но весьма возможно, что часть из них все же будут нуждаться в дальнейших уточнениях или в смене контекстов их рассмотрения.
Для сравнения вспомним, что ключевой вопрос Джона Данна, когда он изучает политическую мысль Джона Локка, заключался в том, чтобы объяснить смену идейных ориентиров английского философа, после того как он поступил на службу к графам Шефтсбери, где и возникла знаменитая серия «либеральных» сочинений Локка10. Такая постановка, учитывающая особенности различных редакций авторских сочинений, рукописную традицию и историю публикаций, печатную полемику и переписку, сменяющиеся в итинерарии интеллектуала круги контактов и заказчиков, представляется применимой ко многим текстам Московской Руси, с той оговоркой, что ни выступлений в печати, ни публичной полемики, ни переписки от большинства изучаемых ниже произведений до нас не дошло и приходится восстанавливать контексты развития авторских доктрин иногда окольными путями, тем не менее иногда открытыми и даже освоенными. Для ключевых тезисов предлагаемой книги значимы научные дискуссии, касающиеся датировок и контекстов возникновения Послания Вассиана Рыло, «Просветителя» Иосифа Волоцкого, «Сказания о князьях владимирских», Послания Федора Карпова, «республиканских» сочинений князя Андрея Курбского, представлений Ивана Грозного о тирании, Лицевого свода Ивана Грозного, доктрины избрания на царство Михаила Федоровича, «Сказания» Авраамия Палицына, «Временника» Ивана Тимофеева, отдельных высказываний Афанасия Ордина-Нащокина, царя Алексея Михайловича, Сильвестра Медведева, высказываний о царстве и народах царя Петра Алексеевича, исторических полемик ряда авторов рубежа XVII – середины XVIII в.
Несмотря на многочисленные утраты источников и на специфику распространения информации в рукописную эпоху, в распоряжении исследователей московской идеологии есть множество текстов, сохранность которых обеспечена прежде всего их высокой значимостью для читателей Московского царства, регулярной востребованностью и более широкой циркуляцией. Период Московского царства располагается между двумя хронологическими рубежами – наступлением царства и сменой царства на империю. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский говорят в связи с этим о смене в культурной ориентации российской власти парадигмы Византийская империя – Константинополь – Константин Флавий на парадигму Римская империя – Рим – Октавиан Август11.
Этот переход, как мы покажем, был связан с труднопреодолимой задачей – поиском интеллектуальных, и прежде всего исторических, истоков «Римского наследства» в российской древности. В определенном смысле выбор между Константином Флавием и Октавианом Августом произошел сам собой в прошлом самой же Римской империи (Византии) – в пользу христианского наследия. Отказываться от этого выбора было невозможно ни в начале XVI в., ни в начале XVIII и позднее вплоть до русских революций XX в. В то же время выбор в пользу Октавиана Августа был сделан не как отказ от парадигмы Константина Флавия, а в иной плоскости. Конкурентом и неуловимым в римском прошлом двойником Цезаря Августа, а вместе с тем и источником российской царской идеологемы стал император Прус. Немногословные в целом российские монархи старательно оберегали трон и свои права от споров со знатоками римских древностей. Это не значит, что таких споров не было. Власть узнала много неприятного о своих вымыслах и каждый раз была вынуждена реагировать на критику12.
С другой стороны, немногословность сказалась на общем интеллектуальном фоне той поры. Храня тайны своего происхождения и отчасти строя на умолчаниях идеологический проект, российская верховная власть вплоть до Петра I крайне мало пользовалась риторическими приемами для повышения своего авторитета. От Ивана III и его ближайших предшественников на российском троне не осталось ни одного «бродячего» высказывания идеологического плана. Никого не следовало учить, как править и как вести себя по отношению к властям. Многословный Иван Грозный распаляется на огромные, иногда многочасовые по продолжительности монологи, из которых в цитатах и комментариях не остается ничего, как если бы читающая публика в России не занималась ни интерпретацией идей своего правителя, ни даже их чтением, в минимальном объеме копируя их в посильном для рукописной книжности – а на деле весьма искаженном – виде.
В качестве условной периодизации своего предмета отметим, что его ключевые события располагаются между концом XV в., когда Москва одержала военную победу над Великим Новгородом и Великим княжеством Тверским и возникло восточное направление российской дипломатии, и серединой XVIII в., когда в Санкт-Петербургской Императорской академии прошла первая научная дискуссия о прошлом России.
Зная, как именно распространялись знания и сообщения, мы могли бы оценить весомость тех или иных мыслительных продуктов и самих ходов мысли этой эпохи, поскольку нередко в культуре, особенно в значительной мере анонимной, ходы мысли существуют, но на очень ограниченных участках мышления и в небольших сообществах людей. Или даже у одного мыслителя, которого прочитали заведомо немногие или даже буквально никто из современников.
Среди них немало хлопот доставляющие исследователям своими высказываниями о мире, власти и общественной жизни Вассиан Рыло (ум. 1481), Нил Сорский (ок. 1433–1508), Иосиф Волоцкий (1439–1515), Федор Карпов (вторая половина XV в. – до 1545), Максим Грек (ок. 1470–1555), старец Филофей (первая половина XVI в.), Михаил Медоварцев (конец XV в. – начало 1530‑х), Иван Пересветов (Федоров) (начало XVI в. – 1583), князь Андрей Курбский (1528–1583), Иван Тимофеев сын Семенов (ок. 1555–1631), князь Иван Хворостинин (ум. 1625), князь Семен Шаховской (ум. 1654/55), Афанасий Ордин-Нащокин (1605/06–1680), Симеон Полоцкий (1629–1680), Григорий Котошихин (ок. 1630–1667), князь Василий Голицын (1633, 1639 или 1643 г. – 1714), Сильвестр Медведев (1641–1691), Андрей Лызлов (ум. не ранее 1697), Андрей Матвеев (1666–1728), Василий Татищев (1686–1750), Герхард-Фридрих Миллер (1705–1783), Михаил Ломоносов (1711–1765)13.
Само «их время» может пониматься по-разному. Уильям Штраус и Нил Хау говорят о поколении («group-cohort») как о мировоззренческой и исторической (эпохальной) общности, обычно сосредоточенной на отрезке времени в 20–22 года (с пограничными группами из тех, кто родился на три–пять лет раньше или позже), значимые события для страны происходят нередко на отрезках в 40–45 лет (то есть в два малых цикла), тогда как более крупная единица измерения времени – цикл, или saeculum в 80–90 лет (в «долгую жизнь одного человека»). Вслед за Аланом Шпитцером Штраус и Хау отмечают условность периодизации истории по поколениям, однако условны в этом смысле и социальные классы, идеологии и политические движения14.
Если распределить всех названных выше мыслителей Московского царства по оси времени, то из них образуется примерно четыре или пять циклов. Максим Грек не застал Вассиана Рыло, князь Иван Хворостинин не застал Максима Грека. Князя Ивана едва застал Афанасий Ордин-Нащокин, и, вероятно, вовсе не был его современником Григорий Котошихин, тогда как Василий Татищев не застал никого из названных.
Приведем такие «сдвиги» поколений, для которых может потребоваться смена оптики, ключевых понятий и сфер, в которых проявились идеологические формы. Меньше внимания будет уделено писателям, уместившимся большей частью своей биографии в XV в. Их споры затрагивали судьбы мировых империй, отношений с татарским миром, Золотой Ордой, наследие общехристианских соборов первой трети XV в. и распад христианского мира после падения Византийской империи, а также отношений внутри и между княжескими родами у Рюриковичей и Гедиминовичей, связь между душеспасением и политической деятельностью и формы подвижничества внутри христианства. Шаг к модерной эпохе в Российском государстве, как и в Европе, был сделан, когда возникла идеология коллективного очищения в условиях обострившихся апокалиптических ожиданий – ее проявления заставляют вспомнить аналогичные преобразования в западном христианстве.
Исследуя один из переломных моментов в становлении авраамических культур, Джон Мартин говорит о том, что ожидание апокалипсиса в них кардинально отличалось от представления о «конце истории» в модерных культурах. Страх перемешивался с радостным предвкушением, и для всех авраамических религий Конец Истории был предзнаменован падением Константинополя (1453 г.), появлением кометы Галлея (1456 г.) и целым комплексом сошедшихся под одной датой событий – падением последнего мусульманского эмирата в Иберии, изгнанием евреев из Испании и ожиданиями открытия Христофора Колумба, обернувшимися проектами нового Крестового похода, который Колумб предлагал организовать на привезенное им и еще не привезенное из «Индий» золото (1492 г.). Уже через год после начала первой экспедиции Колумба французский король Карл VIII вторгся в Италию, разрушив и так неустойчивое status quo (хотя угрозы ждали скорее со стороны Османской империи). Это нашествие фра Джироламо Савонарола расписывал флорентийцам как исполнение пророчества о восстановлении Каролингской империи, приходе ангельского папы, начале Крестового похода против неверных и апокалиптическом Новом Иерусалиме (его место Савонарола отводил Флоренции)15.
Сформировавшееся или вошедшее в активную жизнь в 1490–1520‑е гг. поколение Федора Карпова и Максима Грека познало момент, когда во всех трех библейских конфессиях ожидалось наступление апокалипсиса. Русские современники вставших на новый путь европейцев так же, как и они, ужаснулись падению Константинополя, учинили гонения на «жидовствующих», а ко времени Ивана IV запретили иудеям въезд в Русское царство16. Золото открыть не удалось, но вместо него с конца XV в. в Москву начинает стекаться из Новгородской земли, Коми, Приуралья и Югры живое золото – пушнина. Благодаря новациям в фортификационном и в целом инженерном деле, стремительно совершенствующимся артиллерии и другим видам огнестрельного оружия, масштабному использованию боевой конницы и стрелецких подразделений Русскому государству с конца XV в. удалось вступить в противостояние за ордынский мир, преодолев прямую политическую зависимость от царской (ханской) власти Чингизидов.
«Веяния» европейских, мусульманских и иудейских преобразований сказывались на различных сферах жизни в России. И преувеличение, и преуменьшение этих тенденций внесли много дискуссионных точек зрения в науку о русской культуре XV – середины XVIII в. Вместе с тем идеологические ориентиры четырех больших жизненных циклов этого периода складывались в значительной мере из принятий, реакций и отталкиваний от проникающих в Россию культурных новаций. Культура не существует в безвоздушном пространстве, тем более что следование техническим усовершенствованиям было залогом выживания страны в конкуренции с другими странами и народами. Из этого следует не только умеренная диффузность культуры Московской Руси – по меньшей мере, она должна была быть хотя бы умеренно диффузной, – но и возможность интерпретировать властные языки московских правителей и интеллектуалов, и среди них ключевые идеологемы, как знак взаимодействия с этими тенденциями и как щит противодействия им.
Заимствованы в Московской Руси, несмотря на ее зримую местную традиционность, были все ключевые идеологические языки. До этого периода в Северо-Восточной Руси не было не только имперской власти, этнического представления о народе, исторического жанра и республиканских дискурсов, но и понимания того, что они здесь нужны и уместны. А вот причины их появления во многом связаны с теми общекультурными явлениями, которые различные теоретики называли чувством завершенности истории, обостренными эсхатологическими ожиданиями, страхом перед грядущим или уже наступившим апокалипсисом.
Финальный момент истории раскрыл не-модерные (иначе – средневековые) страхи и ожидания. Цветан Тодоров видит в «открытии Америки» парадоксальный шаг к модерному миру, сделанный экзальтированным средневековым мышлением и возможный благодаря далеким от модерной ментальности Христофору Колумбу (Колону) и конкистадорам, мечтавшим найти земли, известные по пророчествам и фантастическим свидетельствам Ездры и Исайи, Плинию, Марко Поло, Паоло Тосканелли и Пьеру д’Айи, найти новый путь к завоеванию Иерусалима, обеспечить окончательное торжество христианской церкви и процветание новой республики, завоевать колонии для народа Испании, переназвать завоеванный мир и рассказать, подобно Одиссею, историю мира заново17.
Астрология объединяла эсхатологические настроения иудеев, христиан и мусульман и позволяла ученым вычислять даты грядущего апокалипсиса. Это занятие и стало отличительным знаком вхождения в модерную эпоху, его повсеместным выражением в самых разнообразных формах. С исламом православие сближала вера во Второе Пришествие Христа, с иудаизмом – апокалиптическая и имперская в своих аллегориях «Книга пророка Даниила» (в иудаизме – «Sefer Daniyel»). «Гонка апокалипсисов» второй половины XV – XVII в. не обошла стороной Российское государство. В том же 1491/92 г., когда в западном христианстве, иудаизме и исламе наступала или близилась новая эра, по стечению обстоятельств, которые трудно считать чистой случайностью, в России (Русском господарстве), согласно византийскому летосчислению, завершилась Седьмая тысяча лет от Сотворения мира и началась Восьмая тысяча. В этой дате интеллектуалы Северо-Восточной Руси искали тревожные сигналы надвигающегося апокалипсиса.
Последствия этих страхов не раз изучались18. Одно из них относится к середине XVI – началу XVII в., когда сменились поколения Ивана Пересветова и князя Андрея Курбского. В эти годы в России зародился жанр истории. Он будет изучен нами в связи с так называемой доктриной Москва – Третий Рим, распространение которой, как теперь ясно, на протяжении долгого времени было узколокальным, а круг значений далек от привычных для более поздних эпох оптимистических слоганов. Придворные интеллектуалы спорили о чем-то далеком от «исторического выбора», «своего пути» или «оснований Империи». Когда в Россию приехал ученик и последователь фра Джироламо Савонаролы Максим Грек, с его учением, популярным в придворных кругах, пришлось считаться высшим церковным и светским властям, а позднее они вошли в старообрядческий канон, поддерживая апокалиптические настроения и продолжая оказывать влияние на умы благодаря книжной традиции Максима и его учеников (например, полностью переосмысленных сочинений князя Андрея Курбского).
Идеология в любом ее понимании имеет дело с областью активного социального взаимодействия. Это сфера базовых мотиваций, обычно весьма редуцированных и тем не менее важных для сообщества, которое обустроило коммуникации в этой области по каким-то причинам именно так, а не как-то иначе. Когда Россию постигла Смута, поколение князей Ивана Хворостинина и Семена Шаховского оказалось лицом к лицу с проблемами, которые не тревожили их предшественников, да и современники искали ответы на тревожащие их вопросы, нередко не имея под рукой осмысленных решений и образцов. Как пишет С. Ю. Шокарев:
Нельзя, однако, абсолютизировать борьбу мифологем в противостоянии между Борисом Годуновым и Лжедмитрием I. Идеологические аргументы и исторический контекст волновали немногих жителей Российского царства. Базовые представления складывались из более простых понятий19.
Для «широких масс» значима была устойчивость и безмятежная сменяемость власти, отразившаяся, как отметил исследователь, в неизменности формуляров царских указов и прочих форм взаимодействия между властью и людьми. Умами правили не рафинированные идеи, а общие обстоятельства, которые поддерживали не только мыслимую устойчивость, но и некоторую подвижность порядка. Ни избрание Бориса Годунова, ни даже приход к власти царя Дмитрия Ивановича (как Лжедмитрия I, так и последующих претендентов на это имя и титул) не несли в себе непреодолимых потрясений и не меняли «базовых представлений» ни высшей власти, ни социальных низов.
Т. А. Опарина отмечает двойственность в том, как патриарх Филарет Никитич после возвращения из плена в 1619 г. санкционировал заимствования из западной (прежде всего польской и украинской) книжности:
Идея богоизбранности Русской земли выполняла в первую очередь задачи укрепления государственной власти и консолидации общества. Для их решения власть считала необходимым доказать своим подданным исключительность исторического пути России, страдающей за истинную веру. Охранительный курс Филарета означал также возвращение к прежней традиции, принятой в XVI в., – оттуда черпались представления, обосновавшие новый идеал благочестия. Но призывы к возрождению, возвращению к «старине» неизбежно сочетались с новой духовной реальностью20.
По мнению исследовательницы, эта система просуществовала до 1640‑х гг., когда наметился новый виток открытости, который автор связывает с «планами создания русской империи»21. Их застало поколение Афанасия Ордина-Нащокина, ставшее активным участником событий Раскола, Тринадцатилетней войны и создания Государства Великой, Малой и Белой России.
Планы по созданию в России империи запускались неоднократно в конце XV – начале XVIII в., и каждый раз по своим причинам, причем ингредиенты имперских идеологий менялись с течением времени и в связи с пересмотром самих оснований имперской власти. На долю поколений XVII в. пришлись тревоги, вызванные новым надвигающимся апокалипсисом. Эти страхи не исчезали ни в начале XVII в., когда Антихрист занял свое место среди действующих лиц Смуты, ни в 1666 г., когда Антихриста ждали по нумерологическим причинам и видели много знамений его явления в церковной и в государственной жизни, ни 33 года спустя – в 1699 г., когда царь Петр Алексеевич вернулся из Европы, но для многих современников это был уже не прежний царь и даже вовсе не тот человек, который уезжал из Российского царства годом ранее22.