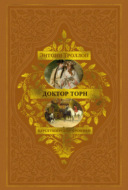Kitobni o'qish: «Исход(ы)»
Рейчелели, тебе посвящается
Серия «Большой роман»
Julian Barnes
DEPARTURE(S)
Copyright © Julian Barnes, 2026
All rights reserved
Перевод с английского Елены Петровой
Примечания Елены Петровой и Зинаиды Смоленской
Оформление обложки Вадима Пожидаева

© Е. С. Петрова, перевод, 2025
© Е. С. Петрова, З. А. Смоленская, примечания, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
Обожаю Стивена Кинга. Он пугает меня до усрачки. А еще я очень люблю Джулиана Барнса – и это совсем, совсем другое дело.
Дэвид Боуи
Барнс всегда умен, часто оригинален и неповторимо ироничен.
Уилл Селф (The Times)
Очередной шедевр в жанре «автофикшн» от нашего любимого букеровского лауреата. «Книга эта станет для меня последней», – пишет рассказчик, которого тоже зовут Джулиан Барнс, мастер преувеличений и предатель доверия (чего он и не скрывает).
Kirkus Reviews
И снова Барнс исследует взаимоотношения между литературой и жизнью, между автором и теми, кто его вдохновляет. Искусно манипулируя судьбами персонажей, он получает «удовлетворительное завершение сюжета, какое редко наблюдается в жизни».
Publishers Weekly
Рисковать всем и противостоять судьбе, искать счастья и знать, когда пора сказать «прощай», – вот о чем «Исход(ы)». Книга будет опубликована 22 января 2026 года, через три дня после того, как Барнс отметит 80-летний юбилей.
Bookseller
Джулиан Барнс всегда больше напоминал французского философа, чем британского писателя.
Catholic Herald
Как это часто происходит с изящной (во всех смыслах) прозой Барнса, читатель постепенно вынужден усомниться в своих первых впечатлениях, в очевидных выводах, да и в самих событиях, как будто составляющих базовую сюжетную канву.
Financial Times
Своего рода смесь художественной прозы и эссеистики, а именно такого рода гибриды удаются Барнсу лучше всего.
Radio New Zealand
Каждой своей новой книгой Барнс будто меняет правила игры.
Oldie
Сердцем романов Барнса часто служат воспоминания о прошедших событиях, о давних отношениях – и никто другой не умеет так тонко передать всю хрупкость нашей памяти, даже когда речь идет о самых важных событиях нашей жизни и самых близких людях.
NewsChain
Джулиан Барнс всегда любил размывать границу между прозой художественной и документальной, писать романы, похожие на литературоведческие или исторические работы.
The Guardian
Чего у Барнса не отнимешь, так это способности удивлять.
Sunday Times
Барнс не только виртуозно развлекает читателя, но и обращается к нему с серьезными моральными вопросами; самые мрачные стороны предательства и боли он демонстрирует с тем же блеском, что и фарс сложных любовных перипетий, и столкновение характеров.
The New Yorker
Мало кого так приятно читать в наши дни, как Джулиана Барнса.
Chicago Tribune
В его творчестве остроумие и интеллект сплетаются так, что этому невозможно сопротивляться.
New Statesman
Джулиан Барнс показывает нам, чего может добиться независимый сильный писательский голос, решительно отбрасывая костыли современной прозы.
Philadelphia Inquirer
Джулиан Барнс – один из небольшой плеяды британских романистов-новаторов, которым удалось вытащить английский роман из провинциальной колеи, в которой тот было застрял.
Newsday
Книги Барнса – это гимн человеческому воображению, сердцу, неистовому разнообразию нашего генофонда, наших деяний, наших наваждений. Они щекочут нам ум и чувства, и Барнс добивается, без трюков и каламбуров, того, что так ценил Набоков, – эстетического наслаждения.
Chicago Sun-Times
Барнс рос с каждой книгой – и вырос в лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов. Читатель давно и устойчиво сроднился с его сюжетными и стилистическими выкрутасами и не променяет их ни на что.
The Independent
Любителей изящной, умной и афористичной прозы Барнс никогда не разочарует.
The Gazette
Барнс – непревзойденный мастер иронии. Все детали современной жизни он улавливает и передает со сверхъестественной тщательностью.
London Review of Books
Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.
The Independent
Фирменное барнсовское остроумие ни с чем не спутаешь.
The Miami Herald
В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.
The Scotsman
Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.
The New York Times
Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос… Опять и опять он изобретает велосипед.
Джей Макинерни
Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.
The Times
По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.
New Republic
Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.
Российская газета
Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно… В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.
Майя Кучерская(Psychologies)
1. Великий Аз есмь
На днях обнаружил одну тревожную вероятность. Нет, хуже: тревожный факт.
У меня есть старинная приятельница, консультирующий радиолог, которая уже много лет присылает мне выдержки из «Британского медицинского журнала». Ей известен мой интерес ко всяким ужасам и крайностям. Моя память (место, где пересекаются деградация и приукрашивание) хранит истории о пациентах, которые буквально взрывались, когда раскаленный скальпель обжигал их телесные газы, а также случаи из раннего периода использования МРТ-сканера, когда внутренние металлические стежки выстреливали, как шрапнель, в мягкую плоть. Такие истории подчас сопровождаются фотоснимками: например, некоего человека, который отрастил крючковатые ногти на ногах, причем такой длины (если не ошибаюсь, в несколько метров), что долгие годы не мог ходить. Кроме того, медикам приходится что ни день извлекать неожиданные предметы, которые были проглочены пациентами (например, пакетики гвоздей) или силовым путем введены в прямую кишку (в былые времена популярными анальными самоимплантами становились миниатюрные бюсты Наполеона – обычай, который, несомненно, дополнял удовольствие патриотизмом). Но особенно запомнился мне эпизод с мужчиной, которому установили трахеостомическую трубку. Когда он явился на плановый медосмотр, врачей насторожили желтоватые пятна вокруг отверстия, в котором была зафиксирована трубка. Пациент, как выяснилось, был заядлым курильщиком, который, не имея больше возможности курить через рот, обнаружил, что стоит только выдернуть трубку – и сигарета удачно вписывается в отверстие; остается только прикурить и втянуть воздух легкими. Мужчины (а большинство этих уму непостижимых действий совершали именно мужчины) бывают весьма изобретательны, даже (или особенно) в тех случаях, когда речь идет о чем-нибудь совершенно не полезном.
Самая свежая выдержка, присланная доктором Джеки, имела, как повелось, литературный заголовок: «ПРУСТ И МАДЛЕН: вместе в таламусе». Естественно, я стал читать дальше. Мадлен, как вы помните, была не любовью всей жизни Пруста, а разновидностью печенья, которое, будучи опущенным в чай, навевало человеку автобиографическую запомнившуюся естественно-спонтанную мысль (АЗЕСМ). Источником данного материала послужил журнал «Практика клинической неврологии», а объектом – сорокапятилетний мужчина, перенесший геморрагический инсульт в левом постероталамическом отделе. Последствия оказались гораздо более экстремальными и специфическими, нежели легкая встряска, которую Пруст (с его вымышленным повествователем) получил от мадленки – даже не печенья в полном смысле слова, а, скорее, пышного маленького пирожного в форме рифленой ракушки моллюска-пилигрима. Пациент поведал, что у него «вкус выпечки с яблоками пробуждает воспоминания обо всех пирогах, которые он когда-либо пробовал: они возникают в хронологически точной последовательности, каскадом врываясь в сознание».
Как я уже отметил, моей первой реакцией была тревога: вообразите такие массированные атаки забытых воспоминаний, лавину истории, что сметает ваше восприятие настоящего, разрывает самосознание. Но, как спросил один знакомый, что, если триггерный опыт был не столь жизнеутверждающим, как смакование яблочного пирога? Вот представь, сказал он: если бы ты ненароком пукнул, даже очень тихо, а тебе тут же предоставили хронологический список всех выпущенных тобою газов? И так далее, и тому подобное – примеры, свои собственные, можно привести без труда. Представьте себе изнурительное осмысление – или зрелище – нескольких тысяч сэндвичей с беконом, промелькнувших у вас в сознании (а будет ли воспроизведено также их качество и различие вкупе с реакцией организма?).
Сейчас мне за семьдесят, и, как большинство людей в возрасте, я порой нагоняю на себя скуку: под этим я подразумеваю свое назойливое запоминание мыслей, поступков и – особенно – мнений. (А те, кто не знает скуки, кто и дальше прилюдно развлекает себя собственной жизнью и повторением своих баек, те, как правило, оказываются самыми жуткими на свете занудами. В большинстве своем это, кстати, мужчины.) Но бешеная, агрессивная скука высокоскоростных АЗЕСМов просто невообразима – по крайней мере, в настоящее время. Неужели она не подталкивает к самоубийству?
Моя вторая реакция оказалась более взвешенной и более писательской. АЗЕСМы – незаменимые помощники в работе над автобиографией. Вам кажется, что некий эпизод всплывает в памяти «просто так», и чем чаще он вспоминается и пересказывается, тем больше раз вы убеждаетесь в его истинности. Но что, если вас уличит и поправит… ваш собственный мозг? Что, если он разложит перед вами все ваши истории, демонстрируя, как вы раз за разом, причем систематически, отступали от своего первоначального повествования? Не будет ли это выглядеть странным, не возымеет ли дезориентирующий эффект? Впрочем, оно и полезно: едва ли вам под силу перебороть свой таламус, правда?
А что, если ваш мозг сохранял бы хронологическую последовательность не только всех съеденных вами пирогов, но и всех ваших нравственных действий и бездействий? Всех ситуаций, когда вам случалось говорить «Я тебя люблю» независимо от того, кривили вы при этом душой или нет. Всех ситуаций, когда нужно было сказать «Я тебя люблю», а вы прикусили язык, хотя, допустим, пытались сказать, но не получилось. Как бы вы посмотрели на перечень – хронологический перечень – всех своих обманов, лицемерий, жестокостей – как необязательных, так и (казалось бы) неизбежных, всех своих безжалостных упущений, сокрытий, нарушенных обещаний, неверностей на словах и на деле?
Не просто реальных слабостей, но воображаемых и желанных. Вспомним нашумевшее интервью президента Джимми Картера журналу «Плейбой» на тему похоти, когда он ничтоже сумняшеся признался, что «не раз прелюбодействовал в сердце своем». Так поступало большинство из нас, стараясь, впрочем, сохранять в памяти только наиболее трогательные и наименее постыдные из своих фантазий. А что делать с теми позорными, недопустимыми, низменными адюльтерами сердца, которые мы предпочли подавить?
У этого пресловутого допущения президента Картера есть вторая часть, которая поражает меня еще большей наглостью. Признав свои грехи-мечтания, президент Картер продолжил: «Господь признает эти мои деяния… ибо я их совершаю… и Господь мне это прощает». С точки зрения человека неверующего, это звучит более чем самодовольно: Бог не только простит Джимми Картера на Страшном суде, но и уже прощает его по ходу дела всякий раз, когда учащенно бьется это похотливое сердце. Не иначе как президентам дана бóльшая прозорливость, нежели всем нам, в понимании природы и великодушия Всевышнего.
Так вот, в связи с этим возникает еще один вопрос: а что, если бы существовал такой способ продуцирования АЗЕСМов, который не требует, чтобы пациент – вы, я – прежде перенес катастрофический инсульт? Люди, в конце-то концов, трепанируют себе подобных со времен неолита – сверлят отверстия в черепе, чтобы выпустить демонов, злых духов и безумие, чтобы ослабить давление на мозг, облегчить эпилепсию и другие психические расстройства. В северноевропейской живописи начала XVI века была популярна подтема, обозначаемая как «Извлечение камня безумия». Самый известный пример оставил нам Иероним Босх, изобразивший дебелого немолодого крестьянина, который откидывается на спинку деревянного кресла, тогда как хирург, надев на голову жестяную воронку, долбит лоб своего пациента. (Впрочем, не исключено, что воронка – это опознавательный знак хирурга-шарлатана.)
Что, если бы стало возможным просверлить в черепе точно выверенную дыру, причинив бесконечно малый ущерб, чтобы спровоцировать полное высвобождение наших воспоминаний? Трудно, конечно, представить, чтобы какой-нибудь нейрохирург согласился выполнить подобную манипуляцию или уверовал в ее общественную пользу. (Такие доводы, как «Я хочу получше запомнить свою матушку» или «Для меня это стало бы огромным подспорьем при написании автобиографии», малоубедительны.) А ведь существует помимо этого и долгая, хотя и не особо выдающаяся история самотрепанации, так что, возможно, какая-нибудь отважная душа, страдающая амнезией или ранним слабоумием, сможет убедить себя в целесообразности этой процедуры… и опять же, безрассудным кандидатом, скорее всего, окажется мужчина. Один из популярных инструментов самотрепанации – это стоматологическое сверло. Умники прибегают к такому методу, чтобы «улучшить мозговое кровообращение», а также открыть – почти в буквальном смысле – «третий глаз», якобы ведущий к духовному просветлению.
Но представьте себе далее, что в какой-то момент это стало не только хирургически осуществимо, но и вполне законно: так не захотите ли попробовать? Вероятно, на первых порах для прохождения процедуры можно будет подкупить добровольцев, которые сочтут, что это ничуть не хуже, чем продажа собственной крови.
АЗЕСМ – лишь необходимая, сама собой возникшая аббревиатура. Но поставьте пробел – и вы получите почти что «Аз есмь». Что вполне уместно. Память – это идентичность, как мы нередко повторяем сами себе. Тогда все хранящиеся у нас в голове АЗЕСМы образуют в совокупности то, что мы собой представляем. А за этим скрывается Великий «Аз есмь», что приближает нас к указанию на христианского Бога. Прежде Он карал нас или награждал, потому что помнил каждое наше деяние, каждую мысль и эмоцию, пропущенную нами через себя. Хотя многие до сих пор верят, что после смерти их ждет Страшный суд, теперь появился и конкурирующий, предсмертный, потенциально доступный суд, обновленный и секуляризированный. Каталог наших грехов не внесен в монументальную книгу записей святого Петра, но хранится у нас в мозгу. Чтобы найти ключ, потребуется – вполне возможно – только бригада невропатологов.
Но кто тогда возьмет на себя роль Бога? Не оперирующий же хирург: он не более чем специально обученный посредник. Так что судьями останемся мы сами. А это, неровен час, приведет к самооправданию. Если только, наоборот, не заставит нас повзрослеть.
Я узнал еще кое-что о случае с человеком, который помнил каждый съеденный им пирог. Его АЗЕСМы начали возникать через девять месяцев после инсульта, а их временнáя линия проходила через всю его жизнь, с той поры (которую нам, как принято считать, помнить не дано), когда он был годовалым младенцем, и до сегодняшнего дня. Спусковым крючком могли служить прикосновение, запах, вкус или зрительный образ. Однажды запах свежего теста вызвал у него детское воспоминание: как он топал босиком по бабушкиной кухне, держась за мамину руку. Он снова увидел бабушкин фартук и ощутил «округлое чувство подошв» своих ног. Все это звучит очень по-прустовски.
Но бывало и так, что «каскад» воспоминаний возникал у него без каких-либо конкретных сенсорных стимулов: однажды он во всех подробностях вспомнил семейное посещение всемирной выставки ЭКСПО-1967 в Монреале – в ту пору ему было три года. Кроме того, оказалось, как ни странно, что после инсульта у него улучшилась бытовая память. Ко всему прочему он обнаружил, что способен по желанию подавлять свои АЗЕСМы. Вероятно, какому-нибудь страдальцу такой выключатель принес бы огромное облегчение; а если вы, скажем, пишете автобиографию, то сможете прерваться, чтобы по ходу дела отредактировать тираду, извергаемую из вашего мозга. А со временем – вполне возможно – будет найден еще и включатель: тогда вы сможете в любой момент получить доступ к своему прошлому во всей его полноте – было бы желание. Но вот вопрос: захочется ли вам знать о себе абсолютно все? Хорошая это идея или плохая?
Отсюда – следующий вопрос. Корректно ли называть визуальный каскад всех когда-либо съеденных нами пирогов «воспоминаниями»? Ведь то, что мы привычно считаем воспоминанием, посещает нас, часто или не очень, на протяжении всей нашей жизни, слегка изменяясь от раза к разу, пока в конце концов не сложится в ту версию, которую мы убедим себя считать правдивой. Но когда подопытный, о котором шла речь в том клиническом отчете, пережил «полный детализированный доступ» к посещению монреальской ЭКСПО, этому, вероятно, не предшествовали более ранние воспоминания (хотя домашние наверняка ему что-то рассказывали). Таким образом, это, по-видимому, было не обычное ослабление памяти, а, скорее, новая репрезентация первоначального опыта, корректное возрождение не того, что помнил взрослый мужчина, а того, что получил детский мозг в тот забытый день много лет назад. Это было, скорее, не просто «девственным воспоминанием»: это было само событие, обработанное мозгом на раннем этапе. Не подтолкнет ли это вас к самотрепанации?
Здесь необходимо обозначить два тезиса:
1) Далее последует собственно рассказ (или рассказ в рассказе), но не вдруг; и
2) Книга эта станет для меня последней.
У меня сложилась теория о том, что постоянный бешеный натиск нежелательных – или, по крайней мере, непрошеных – высокоскоростных АЗЕСМов может склонить нас к самоубийству. Допустим, это преувеличение. Но если мы, подобно Любителю Выпечки, не найдем способа их отключить, это, несомненно, нарушит ход нашей привычной жизни. В своем классическом исследовании «Ум мнемониста» советский нейропсихолог А. Р. Лурия описал случай с неким Ш., впервые появившимся на горизонте ученого в двадцатые годы прошлого века. У Ш. была невероятная память, функционирование и техника которой изучались в лабораторных условиях на протяжении тридцати лет. Он мог с поразительной точностью запоминать и воспроизводить последовательности букв и цифр, целые предложения и разрозненные слова, а также в мельчайших подробностях описывать эти тесты более десяти лет спустя. Одним из методов, которые он использовал, было приписывание эйдетических образов ключевым словам:
Вот мне говорят «слон» – и я вижу зоопарк; говорят «Америка» – и я ставлю здесь дядю Сэма, «Бисмарк» – и он должен стоять около памятника Бисмарку; мне говорят «трансцендентный» – и я вижу моего учителя Щербину: он стоит и смотрит на памятник…
Ш. также страдал синестезией, что добавляло ему ежедневной нагрузки. Каждый слышимый им звук сопровождался светом и цветом. Как-то раз у него спросили, не забыл ли он некий конкретный забор. «Нет, что вы, – ответил он, – разве можно забыть? Ведь вот этот забор – он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой острый и пронзительный звук…» Вот он приходит в ресторан: «Я выбираю блюда по звуку. Смешно сказать, что майонез – очень вкусно, но „з“ портит вкус: „з“ – несимпатичный звук… И, если плохо написано в меню, я уже не могу есть – блюдо кажется мне такое замызганное». Все это звучит тягостно; так оно и было: любой внезапный шум или отвлекающий момент во время обращения Ш. к памяти вызывал «клубы пара» или «брызги», которые заслоняли то, что он пытался считывать. А поскольку Ш. с неизбежностью сделался артистом эстрады, доброжелательные или злонамеренные попытки зрителей помочь ему или помешать приводили к невероятному напряжению.
И как это повлияло на его характер и личную жизнь? Поначалу Ш. производил на Лурию впечатление «несколько замедленного, иногда даже робкого человека», но при этом оказывалось, что «мир ранних воспоминаний Ш. несравненно богаче нашего». Во взрослой жизни он десятки раз менял род занятий, пока не стал зарабатывать профессией мнемониста, которая требовала от него решения задач и демонстрации возможностей памяти. Но в остальном этот странный дар зачастую оказывался ему помехой. Например, он, по сути, не мог читать книги, потому что персонажи, которых он помнил в связи с другими, сходными книгами, постоянно вклинивались в текст у него перед глазами. Ему с невероятным трудом давалось чтение стихов, так как образное мышление и язык сбивали его с толку. Как он признавался Лурии: «Я понимаю только то, что я вижу». И не помнить он тоже не мог: он не мог отключить этот участок своего мозга. Окружающие воспринимали его как мечтателя, не замечающего течения времени. В разговоре он без конца уходил в сторону: у него была органическая неспособность держаться в рамках темы. Так, если в разговоре с ним вы упоминали слово «лошадь», он отвечал: «Вы меня спрашиваете о лошади, но ее цвет и “вкус” – все это создает массу впечатлений».
Эта отвлекаемость придавала ему беспомощный вид, а потому на окружающих сам он производил впечатление «скучного, неловкого, несколько рассеянного человека».
Лурия отмечает, что у Ш. была семья – «прекрасная жена и сын, который добился успеха», но даже это воспринималось им будто сквозь дымку. «Действительно, – заключает Лурия, – трудно сказать, что было для него более реальным: мир воображения, в котором он жил, или мир реальности, в котором он был временным гостем». Это, надо думать, ужасающе незавидная доля: быть временным гостем в собственной жизни.
Знаменитый эпизод с мадленкой, которую погружал в чай и смаковал Марсель, повествователь Пруста, не может, судя по изложению в тексте, рассматриваться как пример автобиографических, запомнившихся естественно-спонтанных мыслей, или АЗЕСМов; скорее, это весьма неспешное, наполовину добровольное, наполовину автоматическое мышление, или ВННДНАМ – едва ли удачная аббревиатура. На разных этапах повествования Марсель осознает некую сущностную, глубинную реальность, которая находится где-то вдали – а быть может, внизу: по преимуществу недоступная для нас, она ожидает захвата или возврата. Первый из этих почти трансцендентных эпизодов происходит в самом начале романа. Марсель размышляет о Комбре, маленьком провинциальном городке, где он в детстве, приезжая на каникулы к бабушке с дедушкой, ходил гулять одним из двух маршрутов: либо du côté de chez Swann1, либо du côté de chez Guermantes2 – прогулки эти символически предвосхищают два социальных класса, между которыми впоследствии разделится его жизнь: обеспеченную, образованную буржуазию и аристократию, которая презирала средний класс, но в конечном счете была им поглощена.
Bepul matn qismi tugad.