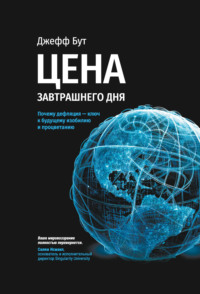Kitobni o'qish: «Цена завтрашнего дня. Почему дефляция-ключ к будущему изобилию и процветанию», sahifa 4
Дешевые деньги
Что мы можем с этим сделать? Давайте для лучшего понимания вспомним кризис 2008 года.
Во взаимосвязанной экономике, стимулируемой ростом кредитования и задолженности, легких решений нет. Когда обвалились цены на жилье, правительства могли (1) подставить плечо банкам и активным инвесторам, но тем самым создать риск безответственного поведения или (2) допустить развитие мирового кризиса, так как доверие к финансовой системе рухнуло и рынки замерли. Они выбрали первый вариант – спасать банки и компании, принимающие на себя кредитные риски, и создали моральный риск.
Сложно сказать, какими были бы последствия, если бы правительства и центральные банки мира не принялись активно спасать экономическую систему. Сейчас нам об этом легко рассуждать, но тогда политические деятели имели дело с изменениями в режиме реального времени и не могли учесть все происходящее во взаимосвязанной мировой экономике, которая вполне могла рухнуть, да так, что нам и не снилось. Они знали, что все их решения будут рассматриваться под микроскопом и подвергаться сомнению будущими поколениями.
Тем не менее они сделали выбор, изменивший капитализм, подарив многим виновникам хаоса безрисковую доходность за счет налогоплательщиков. Используя количественное смягчение в США и монетарное стимулирование в других странах, центральные банки и правительства решали, кто выиграл, а кто проиграл. И последствия этого решения до сих пор сеют семена недовольства по всему миру.
Количественное смягчение – это вливание денег в экономику страны центральным банком для поддержания достаточного уровня ликвидности. Чтобы влить дополнительный капитал, его надо создать. Многие считают, что центральный банк просто «печатает новые деньги». На самом деле деньги необязательно печатать – их можно получать за счет заимствований, наращивая банковские резервы. К примеру, Федеральная резервная система США таким образом увеличила свой баланс с 900 миллиардов долларов в 2008 году почти до 4 триллионов долларов на сегодняшний день.
Еще один способ вливания вновь созданного капитала в экономику – это покупка государством проблемных активов государственного и частного секторов, чтобы вывести с рынка токсичные активы (например, программа Troubled Asset Relief Program). Тем самым государство переводит на свой баланс безнадежные активы корпораций, а взамен дает им свежий, новый капитал.
Финансово стимулировать систему можно и посредством выдачи кредитов коммерческим банкам. В 2008 году банки США получили доступ к заимствованию федеральных средств под 0 процентов годовых. Так они могли выдавать кредиты по более высоким процентным ставкам, чтобы со временем восстановить баланс своих резервов. Некоторые небанковские кредитные организации, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs, изменили свои уставы, чтобы стать банками и получить доступ к беспроцентным займам. В противном случае многие банки ожидало слияние, продажа за копейки или крах.
Однако количественное смягчение априори ведет к девальвации валюты, хотите вы этого или нет. На самом деле у государства не так много активов; оно просто представляет свои активы в большем количестве денежных единиц, в результате чего стоимость каждой денежной единицы уменьшается. Это то же самое, что разрезать пиццу не на восемь, а на двенадцать кусков, или разделить имущество между десятью, а не девятью наследниками. Сразу после анонсирования первого этапа количественного смягчения курс доллара США и привязанных к нему валют упал. В результате сбережения в долларах просели. Реальная зарплата тоже уменьшилась – хотя вы могли этого не замечать, пока цены на топливо не начали бить по вашему карману. Как только американская валюта ослабла, цены на активы по всему миру сразу выросли.
Хорошим наглядным примером являются цены на нефть, потому что это актив с ограниченным предложением. Если валюта страны обесценивается, а страна импортирует нефть, ей нужно тратить больше валюты на покупку того же количества нефти, что и раньше. После трех этапов количественного смягчения в США цены на данный актив выросли с 30 до 100 долларов за баррель. Соответственно выросла стоимость национальных валют в странах, богатых природными ресурсами с ограниченным предложением. К примеру, моя страна, Канада, изобилует природными ресурсами; нефть, золото, пиломатериалы и другие товары – это основные движущие силы экономики. Канадский доллар, который обычно котируется на уровне 75 центов за доллар США, после кризиса 2008 года подскочил до рекордного уровня по отношению к американскому доллару. Аналогичный рост национальных валют отмечался и в таких странах, как Бразилия, Россия и Саудовская Аравия. Соответственно, в этих государствах выросли заработные платы.
Между стоимостью валюты и оплатой труда существует тесная взаимосвязь. Девальвация национальной валюты косвенно влияет на снижение уровня оплаты труда в данной стране по сравнению с мировыми конкурентами, что в краткосрочной перспективе может способствовать росту занятости: когда труд дешевеет, продукция тоже дешевеет, и страна наращивает экспорт. К примеру, если тайский бат падает по отношению к доллару США, а тайские рабочие получают столько же, сколько и раньше, тайские товары обходятся американским покупателям дешевле, что в краткосрочной перспективе может способствовать созданию новых рабочих мест в Таиланде. В то же время расходы тайских рабочих на все импортные товары, которые им необходимы, могут расти пропорционально девальвации валюты.
Страны часто девальвируют валюту, чтобы нарастить экспорт и расширить рынки сбыта. Но в глобально связанном мире, где многие государства отстаивают собственные национальные интересы, в том числе в плане создания рабочих мест, это имеет все меньший смысл. Другие страны, пытаясь конкурировать за те же ограниченные рабочие места, девальвируют свои валюты, чтобы удержать экономику от краха. Эта валютная гонка на понижение ведет к дальнейшему росту мировых цен на активы. А бесконечная игра в снижение стоимости валют по отношению к другим валютам служит лишь краткосрочной панацеей от проблем, потому что активы дорожают намного быстрее, чем можно создать рабочие места – и повысить зарплаты, чтобы они не отставали от цен на активы.
Ленину приписывают утверждение, что лучший способ уничтожить капиталистическую систему – это подорвать ее валюту. Продолжая поддерживать инфляцию, государства могут тайно и незаметно, но совершенно намеренно лишать своих граждан важной части благосостояния. И в то время как этот процесс многих делает беднее, на самом деле некоторых он обогащает. Это намеренное перераспределение богатств ударяет не только по безопасности, но и по уверенности в справедливости существующего распределения благ. Те, кому система приносит неожиданную прибыль, сверх их барышей и даже выше их ожиданий или желаний, становятся спекулянтами и объектом ненависти буржуазии, нищающей от инфляции не меньше, чем пролетариат. По мере роста инфляции и постоянного колебания реальной стоимости национальной валюты все постоянные отношения между должниками и кредиторами, на которых, собственно, и держится капитализм, настолько расстраиваются, что практически теряют смысл; и процесс обогащения деградирует в азартную игру и лотерею7.
Изменение правил
Когда правительства не в состоянии существенно изменить правила игры или повлиять на ситуацию с помощью финансовых рычагов, потому что другие страны вынуждены проводить ответную девальвацию, чтобы сохранить рабочие места, они идут на следующий шаг (как и предсказывали родители жены Чена) – введение тарифов и торговые войны.
Многие политики приходят к власти благодаря обещаниям закрыть границы. В их числе и Дональд Трамп, который был избран на протекционистской платформе «Америка прежде всего». Он также обещал ликвидировать торговый дефицит с Китаем, который в итоге вырос до рекордно высокого уровня. А любимое оружие в арсенале Трампа – это тарифы.
Могли бы тарифы помочь?
В последний раз введение тарифов в Соединенных Штатов закончилось не очень хорошо. В 1930-е годы США преследовали ту же цель, которую сегодня ставят перед собой многие страны. Кредитная экспансия по всему миру привела к Великой депрессии. Чтобы защитить американских фермеров от иностранной конкуренции, Соединенные Штаты приняли закон о тарифах Смута – Хоули, названный так в честь конгрессменов, которые его создали. Тарифы подняли, но реакцию других стран на такой шаг сильно недооценили. Глупо надеяться сохранить существующий экспорт, защищая при этом свою экономику от импорта. Теперь это уже общеизвестный факт, что торговые войны с Канадой и Европой, ответно повысивших тарифы на товары США, продлили Великую депрессию и ухудшили положение фермеров, которых закон о тарифах вроде как должен был защитить.
Мы видим, что сегодня в мире происходит то же самое, и каждая страна реагирует на происходящее по-своему, принимая соответствующие ответные меры. Наши экономики и страны взаимосвязаны, как и наши люди. Ни одна страна не работает изолированно.
Есть ли другое решение ситуации?
Давайте представим на мгновение мир, в котором центральные банки решили бросить остальные банки на произвол судьбы, что многие считают правильным, поскольку капитализм на самом деле основывается на принципе «выживают сильнейшие». Никаких субсидий и дотаций в конце 2008 года. Никакого количественного смягчения. Это несложный мысленный эксперимент.
Цены на активы обваливаются. Кредиты на эти активы становятся непроизводительными. Основная часть банковской системы рушится. Выплатить можно только экономически выгодные займы. Многие люди становятся банкротами, так как кризис уничтожает всех идущих на ненужный риск. Некоторые из этих многих – мы с вами и пенсионеры, неправильно оценившие какие-нибудь экзотические инвестиции, которые, как нас уверяли, абсолютно надежны и безопасны. Из-за недостатка ликвидности в системе банкротами становятся и многие предприятия, а это значит, что ряд инвестиций, считавшихся безопасными, тоже, как говорится, вылетает в трубу. Все это могло бы вылиться в такой экономический спад, что Великая депрессия показалась бы нам прогулкой в парке. Но в таких условиях доллар бы окреп и взлетел в цене, и те, у кого имелись сбережения или большие суммы наличных долларов, провернули бы выгодные операции, скупили бы за бесценок активы и нажили бы себе состояния.
Представьте, насколько другой могла бы быть ваша жизнь. Цены на недвижимость и рядом не стояли бы с нынешними. Акции, скорее всего, по-прежнему находились бы на уровне своих исторических минимумов. Наши политики выглядели бы иначе, точнее, некоторые из них уже не являлись бы нашими политиками, потому что их смели бы из-за роста долгов и обвала цен на активы.
Смягчение денежно-кредитной политики и искусственное занижение процентных ставок – это грандиозный эксперимент, разыгрывающийся на мировой арене без всестороннего анализа побочных эффектов. Для богатых людей и владельцев активов с искусственно завышенными ценами он удался. Если уж начистоту, то основную часть благ и привилегий мы имеем не благодаря своей изобретательности или упорному труду, а благодаря тому, что правительства мира решили печатать деньги. Без этого печатного станка наши активы, включая недвижимость и акции, стоили бы намного меньше.
Между тем люди, у которых активов нет, сравнивают себя с белкой в колесе, которое движется все быстрее и быстрее.
Такое впечатление, что мы живем в мире Бизарро, где все задом наперед. «Бизарро» – серия комиксов, созданная Дэном Пираро. Их действие происходит не на круглой Земле, а на кубической Ялмез (слово «земля», написанное наоборот). В одном из комиксов за апрель 1961 года продавец ведет оживленную торговлю, продавая Бизарро облигации, которые «гарантируют потерю денег». Сегодня это даже не шутка. У многих банков отрицательные ставки, то есть лучше хранить деньги под матрасом.
Так что по мере того, как правительства продолжают стимулировать экономику, а акции и жилье – расти в цене, в наших обществах продолжают нарастать проблемы. Как сказал в 2018 году Пол Волкер, бывший председатель Федеральной резервной системы, «главная проблема заключается в том, что мы превращаемся в плутократию. У нас очень много чрезвычайно богатых людей, убедивших себя в том, что они разбогатели благодаря собственному разуму и способностям»8.
Я вырос с убеждением, что в нашем мире все возможно и что упорный труд и изобретательность будут вознаграждены. Я до сих пор в это верю. Я также верю в капитализм, где риск вознаграждается и наказывается и где вашу ценность определяет свободный рынок. Вот почему мне так больно видеть, как он рушится. Рынок, в который вмешивается государство, – это гибрид капитализма, где богатство создается не ценностью, которую вы производите, и не рисками, на которые вы идете, а политической системой, вознаграждающей своих инсайдеров.
И на каждого выигравшего от такого решения приходится масса проигравших. Расходы на питание, жилье, газ и здравоохранение растут, потому что деньги и заработная плата обесцениваются. Активы, которыми люди еще не владеют, становятся все более недоступными из-за заоблачных цен. И они чувствуют гнет несправедливой системы.
Эти люди, как и вы, могут не знать, сколько им причитается и сколько у них отняли. Но они знают: что-то не так – и сыты по горло.
2
Как работает экономика, часть II: созидательное разрушение
Самая большая проблема, касающаяся решений, которые мы сегодня опробуем, заключается в том, что инфляционная среда, на которую мы рассчитываем как на фактор экономического роста, разрушается вследствие развития технологий. Никакие тарифы, манипуляции с валютой и кредитные экспансии не решат эту проблему. И по мере того, как наши экономики вступают в цифровую эпоху, где все основано на технологиях и данных, они не просто деградируют, но и становятся все более взаимосвязанными. Информация не имеет ограничений, как физические товары: она беспрепятственно пересекает границы. Это значительно повышает эффективность системы, устраняя массу непродуктивных операций. Но причина непродуктивности во многом кроется в рабочих местах.
Нам и раньше об этом говорили: технологии и инновации не только способствуют совершенствованию рабочих мест, но и оказывают долгосрочное положительное влияние на занятость и экономику в целом. В 1800-е годы произошел массовый переход от ручного труда к машинному, и общество от этого только выиграло. Эта промышленная революция создала больше рабочих мест, чем ликвидировала, и луддиты (противники механизации и автоматизации), опасавшиеся повального роста безработицы, оказались неправы. Или, возможно, просто поторопились с выводами.
Во всем мире растет напряженность, потому что повышаются цены и высокооплачиваемые работы находятся в зоне риска. Опрос, проведенный Исследовательским центром Пью в 2019 году, подтверждает эти настроения. Только 14 процентов взрослых американцев считают, что к 2050 году в США будет больше гарантий занятости9.
Из-за этого напряжения и страха люди теряют эмпатию и идут на поводу у идеологов-ксенофобов, а в итоге мы все упускаем из виду главное: менять нужно нашу инфляционную систему, которая требует все больше рабочих мест.
Долой старое, даешь новое
Одним из столпов капитализма и основой развития всех современных экономик является система свободного рынка, для которой характерно появление все новых инновационных предпринимателей, разрушающих старые монополии и создающих новые. Австрийско-американский экономист Йозеф Шумпетер (1883–1950) назвал этот процесс «созидательным разрушением». Он считал инновации, внедряемые предпринимателями-новаторами, разрушительной силой, стимулирующей экономический рост, даже несмотря на то, что это подрывает ценность солидных, зарекомендовавших себя компаний. Более того, инновации подрывают монопольную власть этих компаний, основанную на прежней технологической, нормативной, организационной или экономической парадигме.
Действующие игроки, потратившие годы на совершенствование собственного сценария завоевания рынков, зачастую не понимают, что новые технологии изменяют существующие ценности. Но даже если эта закономерность хорошо понятна, действующий игрок может оказаться в невыгодном положении: технологический прогресс наряду с изменением рыночной ситуации может снизить его конкурентоспособность и стоимость активов. Именно такие обесценившиеся активы, иногда с высокой долей заемного капитала, становятся пресловутым камнем на шее.
Крис Андерсон, бывший редактор журнала The Economist и автор книги «Длинный хвост: Эффективная модель бизнеса в Интернете», намекает на некоторые из происходящих перемен. В своей книге он объясняет, почему при удешевлении дистрибуции крупные действующие игроки, полагающиеся на свою возможность контролировать ее, рискуют утратить свои позиции. Например, до появления Google распространение информации требовало громоздкой многоуровневой структуры, и власть была у тех, кто ею управлял. Будь то газета, телевизионная сеть или крупный маркетинговый бюджет, контроль над дистрибуцией являлся первостепенной и дорогостоящей задачей. Цифровые технологии изменили правила игры. Информация теперь может распространяться значительно быстрее и на гораздо большие расстояния, чем раньше, в связи с чем ценность традиционной системы дистрибуции упала.
В компании Blockbuster на пике ее популярности работало более 84 тысяч сотрудников и было более 9000 магазинов. Ее конкурентное преимущество основывалось на стратегии физической дистрибуции, когда торговые точки располагаются в шаговой доступности от покупателей. Компания использовала силу своего масштаба, чтобы вести переговоры с производителями контента и иметь больше хитов, чем у конкурентов. Но ее руководство не понимало скорости развития технологий и, следовательно, не могло представить мир, в котором цифровая доставка будет мгновенной и бесплатной (или почти бесплатной), – мир, в котором потребители не будут приходить в их магазины и шарить в поисках двух или трех долларов, чтобы взять напрокат видео, а потом платить штраф за то, что забыли вовремя его вернуть.
Сейчас это кажется очевидным, но в те времена скорость загрузки делала потоковую передачу невозможной и Netflix полагался на физическую доставку DVD. Не оценившие размах развития технологий руководители Blockbuster спокойно почивали на лаврах, а когда спохватились, было уже слишком поздно. Они не могли выиграть эту игру. Основное конкурентное преимущество Blockbuster, которое несколько лет назад определяло ценность их бизнеса, – наличие 9000 магазинов с сопутствующими расходами – почти мгновенно превратилось в конкурентный недостаток. Все, до чего они смогли додуматься в плане инноваций, – это поставить в свои магазины стеллажи со сладостями. Дополнительный доход лишь отсрочил неизбежное: в краткосрочной перспективе доходы выросли, но в следующем году резко упали.
Были ли руководители Blockbuster плохими руководителями? Нет. Они оказались в ловушке традиционных взглядов, представлений и подходов. Даже если бы они знали, что грядет, и попытались действовать, их существующая бизнес-модель не дала бы им выжить на новом рынке. Расходы, необходимые для ее функционирования, были бы слишком высокими. Появился Netflix; Blockbuster исчез.
Я знаю это не понаслышке. Я сам руководил компанией с достаточно эффективной бизнес-моделью, но потом понял, что для сохранения будущего ее надо кардинально менять.
Bepul matn qismi tugad.