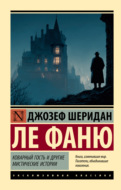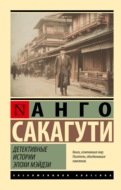Kitobni o'qish: «Маленькая хозяйка Большого дома»
Jack London
THE LITTLE LADY OF THE BIG HOUSE
© Перевод. В. Станевич, наследники, 2016
© Перевод. Стихи. Н. Эристави, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Глава первая
Он проснулся в темноте; проснулся сразу, легко, не сделав ни одного движения, – просто открыл глаза и увидел, что еще темно. Ему не нужно было, подобно большинству людей, сначала пошарить вокруг себя, прислушаться, ощутить внешний мир, – он сразу нашел свое «я» в определенных условиях пространства и времени и без усилий продолжал повесть своей жизни, прерванную сном. Он сразу осознал себя Диком Форрестом – хозяином огромного поместья, который несколько часов назад, уже в полузабытьи, заложил спичкой страницу книги, выключил настольную лампу и уснул.
Где-то совсем рядом сочно плескался и лепетал фонтан. Издалека донесся звук – такой слабый и смутный, что его могло уловить только очень чуткое ухо; однако Дик Форрест услышал его и улыбнулся: он сразу узнал глухой, хриплый рев Короля Поло, своего лучшего быка из породы шортхорнов, три-жды премированного на калифорнийских выставках в Сакраменто. Улыбка долго не сходила с лица Дика Форреста: он рисовал себе те новые победы, которые готовил своему Королю Поло, – в этом году он собирался отправить его на восток. Он докажет, что бык, рожденный и выращенный в Калифорнии, вполне может соперничать с лучшими, вскормленными кукурузой, быками штата Айова и даже с привезенными из-за моря, с их исконной родины, шортхорнами.
Улыбка погасла, Форрест потянулся в темноте к ряду кнопок над изголовьем и нажал первую. Кнопки шли в три ряда. Скрытый свет, лившийся сквозь стенки большой чаши под потолком, осветил спальню-веранду, с трех сторон затянутую тонкой медной сеткой. Четвертой стороной служила бетонная стена дома с высокими застекленными дверями.
Он надавил вторую кнопку в том же ряду, и яркий свет озарил то место на стене, где висели часы, барометр и два термометра – Фаренгейта и Цельсия. Скользнув по ним взглядом, он сразу прочел их показания: время – 4.30, атмосферное давление – 29,80, нормальное для данной высоты над уровнем моря и для времени года; температура – 36° по Фаренгейту. Другим движением пальца он опять погрузил во мрак измерители времени и температуры.
От нажима на третью кнопку вспыхнула его рабочая лампа, поставленная так, чтобы свет падал сверху и сзади, не ослепляя глаз.
Первая кнопка погасила невидимую лампу под потолком; Форрест достал с ночного столика пачку гранок, закурил сигарету и, вооружившись карандашом, принялся их править.
Вся обстановка спальни говорила о том, что здесь живет человек, привыкший работать. Каждая вещь в ней была целесообразна, вместе с тем на всем лежал отпечаток отнюдь не спартанского комфорта. Серая эмалированная кровать была под цвет серой стены. В ногах кровати, вместо теплого пледа, лежал халат из волчьих шкур с висячими хвостами. Ночные туфли стояли на пушистом ковре из меха горной козы.
На ночном столике высились аккуратные стопки книг, журналы, блокноты и еще оставалось место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. На подвижной, прикрепленной к стене подставке стоял диктофон. Со стены, под барометром и термометрами, из круглой деревянной рамки смотрело смеющееся женское личико. И на той же стене, между рядами электрических кнопок и распределительным щитом, висела открытая кобура, из которой торчала рукоятка автоматического «Кольта-44».
В шесть часов, минута в минуту, когда серый утренний свет начал просачиваться сквозь проволочную сетку, Дик Форрест, не поднимая глаз от корректуры, протянул правую руку и нажал одну из кнопок во втором ряду. Пять минут спустя на веранду неслышно вошел китаец в мягких туфлях. Он держал в руках начищенный медный подносик, на котором стояли чашка с блюдцем, крошечный серебряный кофейник и такой же молочник.
– С добрым утром, О-Дай, – приветствовал его Дик Форрест, улыбаясь не только губами, но и глазами.
– С добрым утром, хозяин, – ответил О-Дай; он освободил на столе место для подноса, налил в чашку кофе и сливки.
Увидев, что хозяин уже подносит одной рукой чашку к губам, а другой продолжает делать пометки на корректуре, О-Дай поднял с пола обшитый кружевами воздушный розовый чепчик и удалился. Он скрылся беззвучно, исчез, как тень, в открытую застекленную дверь.
В шесть тридцать, минута в минуту, он вернулся с подносом побольше. Дик Форрест отложил гранки, достал книгу, озаглавленную: «Промысловое разведение лягушек», – и приготовился завтракать. Завтрак был простой, но сытный: снова кофе, полгрейпфрута, два яйца всмятку, сбитых в стакане с кусочком масла и очень горячих, и ломтик в меру поджаренного бекона; он знал, что это мясо от его свиньи, и притом домашнего копчения.
К этому времени лучи солнца уже хлынули через сетку и залили кровать. С наружной стороны сетки сидело несколько первых весенних мух, ошалевших от ночного холода. Завтракая, Форрест следил за тем, как на них охотятся хищные желтобрюхие осы. Более выносливые и менее чувствительные к заморозкам, чем пчелы, они летали перед сеткой и накидывались на ошалевших мух. Эти воздушные разбойники в желтых камзолах свирепо жужжали и, действуя почти без промаха, схватывали свою жертву и улетали с ней. Последняя муха исчезла раньше, чем Форрест сделал последний глоток кофе и, заложив спичкой книгу о лягушках, принялся опять за корректуру.
Через некоторое время он услышал прозрачную, нежную трель жаворонка – этого первого утреннего певца. Форрест оторвался от работы и взглянул на часы: они показывали семь. Он отложил гранки, взялся за телефон и, нажимая привычной рукой кнопки на распределительном щите, вступил в разговор с целым рядом лиц.
– Алло, О-Пой, – обратился он к первому. – Что мистер Тэйер, встал? Ладно. Не будите. Едва ли он будет завтракать в постели, но вы все-таки справьтесь…
Хорошо, и покажите ему, как пускать горячую воду… Может быть, он не знает… Да, да, хорошо… И достаньте как можно скорее еще одного боя. Как только наступает весна, съезжаются гости… Конечно. Словом, на ваше усмотрение. До свидания.
– Мистер Хэнли?.. Да, – начал он вторую беседу с помощью второго контакта, – я думал насчет Бьюкэйской плотины. Мне нужна смета на доставку гравия и камней… Да, вот именно… Я считаю, что ярд гравия обойдется примерно на шесть или десять центов дороже щебня. Ужасно мешает подвозу этот последний крутой склон холма… Разработайте смету… Нет, раньше чем через две недели мы начать не сможем… да, да, если новые тракторы подоспеют вовремя, они освободят лошадей от пахоты; но не забудьте, что тракторы придется еще дать на проверку… Нет. Об этом вам придется поговорить с мистером Эверэном. До свидания.
Третья беседа началась так:
– Мистер Досон?.. Ха! Ха!.. У меня на веранде сейчас тридцать шесть градусов. В низинах, наверно, все бело от инея. Но это, пожалуй, последний утренник… Да, поклялись, что тракторы будут доставлены еще два дня назад… Позвоните железнодорожному агенту… Кстати, поговорите за меня и с мистером Хэнли. Я забыл ему сказать, чтобы вместе со второй партией мухоловок он пустил в дело и крысоловки. Да, сейчас же. Сегодня штук двадцать мух грелись на моей сетке… Конечно. Прощайте.
Покончив с разговорами, Форрест быстро встал, сунул ноги в туфли и, как был, в пижаме, вошел в дом через открытую дверь, чтобы принять ванну, уже приготовленную для него китайцем О-Даем. Минут через десять Форрест, вымытый и выбритый, снова лежал в постели, погрузившись в книгу о лягушках, а пунктуальный О-Дай, все исполнявший минута в минуту, массировал ему ноги.
У Дика были сильные, красивые ноги, и сам он был статный и стройный, рост – пять футов десять дюймов, вес – сто восемьдесят фунтов. Эти ноги могли немало порассказать о их владельце: левое бедро пересекал рубец дюймов в десять длиной; поперек левой лодыжки, от икры до пятки, также шло несколько шрамов величиной с монету. Когда О-Дай посильнее разминал левое колено, Форрест невольно морщился. И на правой голени темнело несколько небольших шрамов, а глубокий рубец, как раз под коленом, доходил почти до кости. На бедре виднелся след застарелого ранения шириной в три дюйма, испещренный точками от снятых швов.
Внезапно со двора донеслось веселое ржание. Форрест поспешно заложил спичкой нужную страницу лягушачьей книги, перевернулся на бок и посмотрел в ту сторону, откуда донеслось ржание, в то время как О-Дай надевал хозяину носки и башмаки. Внизу на дороге, среди лиловых кистей ранней сирени, появился живописный ковбой верхом на крупном жеребце; в золотых утренних лучах жеребец казался красновато-коричневым; он шел, роняя клочья белоснежной пены, гордо взмахивая гривой, поводил вокруг блестящими глазами, и трубный звук его любовного призыва разносился по зеленеющей равнине.
Дика Форреста в то же мгновение охватила радость и тревога: радость при виде этого великолепного животного, выступавшего между кустами сирени, – и тревога, как бы его ржание не разбудило ту молодую женщину, чье смеющееся личико глядело на него из деревянной рамки на стене. Он бросил быстрый взгляд через двор шириной в двести футов на выступавшее вперед крыло дома, находившееся еще в тени. Шторы на окнах ее веранды-спальни были спущены. Они не шевельнулись. Жеребец снова заржал, но он спугнул только стайку диких канареек, – они поднялись из цветущих кустов, которыми был обсажен двор, точно брызнул вверх сноп золотисто-зеленых брызг, брошенный восходящим солнцем.
Следя за жеребцом, Дик Форрест рисовал себе его прекрасное и сильное потомство, этих жеребят без малейшего порока. А когда лошадь скрылась среди сирени, Дик, как обычно, сейчас же возвратился к окружавшей его действительности и спросил слугу:
– Ну, как новый бой, О-Дай? Привыкает?
– Мне кажется, он хороший бой, – ответил китаец. – Совсем мальчишка. Все ему ново. Очень медленный. Но ничего, толк выйдет.
– Да? Почему ты так думаешь?
– Я бужу его третье или четвертое утро. Спит, как маленький. Проснулся – улыбается. Совсем как вы. Очень хорошо.
– А разве я улыбаюсь, когда проснусь? – спросил Форрест.
О-Дай усердно закивал.
– Уж сколько раз, сколько лет я бужу вас. И все-гда, как глаза откроете, так они уже улыбаются, губы улыбаются, лицо улыбается, весь вы улыбаетесь. Сразу. Это очень хорошо. Если человек так просыпается, значит, ума много. Я знаю. И новый бой – умный. Увидите, скоро-скоро выйдет из него толк. Его зовут Чжоу Гэн. Как вы будете называть его здесь?
– А какие имена у нас уже есть? – спросил он.
– О-Рай, Ой-Ой, Ой-Ли, потом я – О-Дай, – перечислял китаец скороговоркой. – О-Рай говорит, надо назвать нового боя…
Он смолк и лукаво посмотрел на своего хозяина.
Форрест кивнул.
– О-Рай говорит, пусть новый бой будет О-Черт!
– Охо! Здорово! – расхохотался Форрест. – Я вижу, О-Рай шутник! Имя хорошее, только оно не подойдет. А что скажет миссис? Надо придумать что-нибудь другое.
– О-Хо тоже очень хорошее имя.
В ушах у Форреста все еще стояло его собственное восклицание, и он понял, откуда китаец взял это имя.
– Хорошо. Пусть называется О-Хо.
О-Дай наклонил голову, неслышно выскользнул в дверь и тут же вернулся с остальной одеждой своего хозяина, помог ему надеть нижнюю и верхнюю сорочку, набросил на шею галстук, который тот завязывал сам, и, опустившись на колени, затянул краги и нацепил шпоры; затем подал широкополую фетровую шляпу и хлыст. Хлыст был особый, индейского плетения, – он состоял из узких полосок сыромятной кожи, в его рукоятку было вделано десять унций свинца, и он висел на ременной петле, которую Дик надел на руку.
Однако Форрест еще не мог уйти из своей комнаты: О-Дай протянул ему несколько писем – их привезли со станции вчера вечером, когда хозяин уже лег. Надорвав правую сторону конвертов, Форрест быстро просмотрел письма и задержался только на одном. Он постоял, насупившись, потом быстро подошел к диктофону, отвел его от стены, нажал кнопку, поворачивавшую цилиндр, и поспешно начал диктовать, не делая никаких пауз, чтобы подыскать нужное слово или точнее выразить свою мысль:
«В ответ на ваше письмо от четырнадцатого марта тысяча девятьсот четырнадцатого года должен сообщить, что я весьма огорчен известием о разразившейся у вас свиной холере. Огорчен я и тем, что вы сочли возможным возложить на меня ответственность за это. А также тем, что боров, которого мы прислали вам, околел.
Могу вас заверить, что холеры у нас здесь не наблюдается, эта болезнь не появлялась уже в течение восьми лет, за исключением двух случаев, когда два года тому назад ее завезли к нам с Востока; но, согласно нашему правилу, заболевшие свиньи тут же были изолированы и уничтожены раньше, чем зараза перекинулась на наши стада.
Должен заявить вам, что ни в том, ни в другом случае я не могу возложить на продавцов вину за присылку мне больного скота. Как вам известно, инкубационный период свиной холеры продолжается девять дней; проверив дату их погрузки, я убедился в том, что при отправке они были совершенно здоровы.
Разве вам никогда не приходило в голову, что железные дороги чрезвычайно способствуют распространению холеры? Слыхали вы когда-нибудь об окуривании или дезинфекции вагона, в котором ехал больной скот? Сопоставьте даты: во-первых, дату отправки борова мной; во-вторых, время доставки борова вам и, в-третьих, дату появления первых признаков болезни. Вы сообщаете, что по случаю весенних размывов боров был в пути пять дней. Первые симптомы появились только на седьмой день после его доставки вам. Следовательно, прошло двенадцать дней после того, как он был мною отправлен.
Нет. Я с вами не согласен: я не могу нести ответственность за бедствие, постигшее ваши стада. Кроме того, можете справиться в ветеринарном управлении штата, есть ли в моем имении холера.
С уважением…»
Глава вторая
Покинув свою спальню-веранду, Форрест прошел через комфортабельную гардеробную с диванами в оконных нишах, большими ларями и огромным камином, возле которого была дверь в ванную, и направился в комнату, служившую конторой и обставленную соответствующим образом: письменные столы, диктофоны, картотеки и книжные шкафы, а также полки, доходящие до самого потолка и разделенные на клетки и отделения.
Подойдя к книжным полкам, Форрест нажал кнопку; несколько полок повернулось, и открылась узенькая винтовая лестница; он стал осторожно спускаться, стараясь не зацепить шпорами за полки, автоматически возвращавшиеся на место позади него.
Под лестницей другая кнопка и поворот других полок открыли перед ним вход в длинную низкую комнату, уставленную книгами от пола до потолка. Форрест прямо направился к одной из полок и сразу опустил руку на корешок книги, которая ему понадобилась. Полистав ее, он тут же отыскал нужное место, удовлетворенно кивнул, как бы найдя то, что подтверждало его мысли, и поставил книгу обратно.
Отсюда дверь вела в крытый ход из квадратных бетонных столбов, соединенных поперечными брусьями из калифорнийской секвойи вперемежку с более тонкими брусьями из того же дерева, покрытыми шероховатой, морщинистой корой, похожей на красноватый бархат.
Судя по тому, что он сделал несколько сот футов, огибая бесконечные стены огромного бетонного дома, было ясно, что путь он выбрал не самый короткий. Под старыми дубами, у длинной изглоданной коновязи, где вытоптанный копытами гравий свидетельствовал о множестве побывавших здесь лошадей, он увидел кобылу гнедой, вернее, золотисто-коричневой масти. В косых лучах солнца, падавших под навес из листьев, ее холеная шерсть отливала атласным блеском. Все ее существо, казалось, было полно огня и жизни. Сложением она напоминала жеребца, а бежавшая вдоль спинного хребта узенькая темная полоска говорила о многих поколениях мустангов.
– Ну, как сегодня настроение у Фурии? – спросил Форрест, снимая с ее шеи уздечку.
Лошадь заложила назад свои ушки, самые маленькие, какие только могут быть у лошади, показывавшие, что она – дитя любви горячих чистокровных жеребцов и диких горных кобылиц, и сердито оскалила зубы, сверкая злыми глазами.
Когда Форрест вскочил в седло, она метнулась в сторону и попыталась сбросить седока, а потом заплясала по усыпанной гравием дорожке. Вероятно, ей удалось бы подняться на дыбы, если бы не мартингал – этот ремень удерживал лошадь от слишком резких движений и вместе с тем предохранял нос седока от сердитых взмахов ее головы.
Дик настолько привык к этой кобыле, что почти не замечал ее выходок. То чуть прикасаясь поводьями к ее выгнутой шее, то слегка щекоча ей бока шпорами или нажимая шенкелем, он почти бессознательно заставлял ее идти в нужном направлении. Один раз, когда она опять завертелась и заплясала, он на миг увидел Большой дом. Да, дом был велик, но благодаря своей архитектуре казался больше, чем на самом деле. Он вытянулся по фасаду на восемьдесят футов в длину, однако в нем немало места занимали галереи с бетонными стенами и черепичными крышами, соединявшие между собой отдельные части здания. Там были внутренние дворики, крытые ходы и переходы, и вся постройка, со своими стенами, прямоугольными выступами и нишами, как бы вырастала из гущи зелени и цветов.
Большой дом, несомненно, носил на себе отпечаток испанского стиля, но не принадлежал к тому испано-калифорнийскому типу зданий, который был занесен сюда через Мексику лет сто тому назад и на основе которого позднейшие архитекторы создали так называемый испано-калифорнийский стиль. Архитектуру Большого дома при всей ее разнородности скорее можно было определить как испано-мавританскую, хотя находились знатоки, горячо возражавшие и против такого определения.
Просторен, но не суров, красив, но не претенциозен – таково было общее впечатление, которое производил Большой дом. Его длинные горизонтальные линии, прерываемые лишь вертикальными линиями выступов и ниш, всегда прямоугольных, придавали ему почти монастырскую простоту; и только ломаная линия крыши оживляла некоторое его однообразие.
Однако эта низкая, словно расползшаяся постройка не казалась приземистой: множество нагроможденных друг на друга квадратных башен и башенок делали ее в достаточной мере высокой, хотя и не устремленной ввысь. Основной чертой Большого дома была прочность. Его хозяева могли не бояться землетрясений. Казалось, он должен выстоять тысячу лет. Добротный бетон его стен был покрыт слоем не менее добротной штукатурки, выкрашенной кремовой краской. Такое однообразие окраски могло быть утомительным для глаз, если бы оно не нарушалось теплыми красными тонами плоских крыш из испанской черепицы.
В тот миг, когда горячая лошадь заплясала под ним и Дик Форрест охватил одним взглядом весь Большой дом, его глаза озабоченно задержались на длинном флигеле по ту сторону двора в двести футов шириной; громоздившиеся друг над другом башенки флигеля казались розовыми в лучах утреннего солнца, а спущенные шторы на окнах спальни под ними показывали, что его жена еще спит.
Вокруг усадьбы с трех сторон тянулись низкие, покатые, мягко очерченные холмы с короткой травой и оградами: там были пастбища. Холмы постепенно переходили в более высокое предгорье с покрытыми лесом склонами, а за ним следовала еще более крутая гряда величественных гор. С четвертой стороны горизонт не заслоняли ни горы, ни холмы. Там, в туманной дали, местность переходила в не-обозримые низменности, конца-краю которым не было видно даже в этом прозрачном и морозном утреннем воздухе.
Фурия под Форрестом захрапела. Он сжал ей шенкелями бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему, топоча копытцами по гравию, текла река серебристо поблескивающего шелка. Он сразу узнал стадо своих премированных ангорских коз, у каждой из которых была своя родословная и своя характеристика. Их было около двухсот.
Благодаря тому, что этих породистых коз осенью не стригли, их сверкающая шерсть, ниспадавшая волной даже с самых молодых животных, была тоньше, чем волосы новорожденного дитяти, белее, чем волосы человеческого альбиноса, и длиннее обычных двенадцати дюймов, а шерсть лучших из них, доходившая до двадцати дюймов, красилась в любые цвета и служила преимущественно для женских париков; за нее платили баснословные деньги. Форреста пленяла красота идущего ему навстречу стада. Дорога казалась лентой жидкого серебра, и в нем драгоценными камнями блестели похожие на глаза кошек желтые козьи глаза, следившие с боязливым любопытством за ним и его нервной лошадью. Два пастуха-баска шли за стадом. Это были коренастые, плечистые и смуглые люди с черными глазами и выразительными лицами, на которых лежал отпечаток задумчивой созерцательности. Увидев хозяина, пастухи сняли шапки и поклонились. Форрест поднял правую руку, на которой, покачиваясь, висел хлыст, и прикоснулся к краю своей широкополой фетровой шляпы.
Лошадь опять заплясала и завертелась под ним; он слегка натянул повод и тронул ее шпорами, все еще не в силах оторвать взгляд от этих четвероногих клубков шелка, заливавших дорогу серебристым потоком. Форрест знал, почему они появились возле усадьбы: наступало время окота, когда их уводили с пастбищ и помещали в особые загоны, где их ждали обильный корм и заботливый уход. Глядя на них, Дик представил себе все лучшие турецкие и южноафриканские породы и нашел, что его стадо вполне могло выдержать сравнение с ними. Хорошее, отличное стадо!
Он поехал дальше. Со всех сторон раздавалось жужжание машин, разбрасывающих удобрение. Вдали, на отлогих низких холмах, виднелось множество упряжек, парных и троечных, – это его ширские кобылы пахали и перепахивали плугами зеленый дерн горных склонов, обнажая темно-коричневый, богатый перегноем, жирный чернозем, настолько рыхлый и полный животворных сил, что он как бы сам рассыпался на частицы мелкой, точно просеянной земли, готовой принять в себя семена. Эта земля была предназначена для посева кукурузы и сорго на силос. На других склонах посеянный раньше ячмень уже доходил до колен и виднелись дружные всходы клевера и канадского гороха.
Все эти поля, большие и малые, были обработаны так тщательно и целесообразно, что порадовали бы сердце самого придирчивого знатока. Ограды и заборы были настолько плотны и высоки, что являлись надежной защитой и от свиней и от рогатого скота, а в их тени не росло никаких сорных трав. Низины были засеяны люцерной; на некоторых зеленели озими, другие, согласно требованиям севооборота, готовились под яровые; а на тех, которые лежали ближе к загонам для маток, паслись сытые шропширские и французские мериносы или рылись в земле громадные белые племенные свиньи, при виде которых глаза Дика радостно блеснули.
Он проехал через некоторое подобие деревни, где не было, однако, ни гостиниц, ни лавок. Домики типа бунгало были изящной и прочной стройки и радовали глаз; каждый стоял в саду, где уже цвели ранние цветы и даже розы, презревшие опасность последних утренников. Среди клумб бегали и резвились уже проснувшиеся дети, а иные, заслышав зов матерей, неохотно уходили завтракать.
Огибая Большой дом на расстоянии полумили, Форрест проехал мимо вытянувшихся в ряд мастерских. Он остановился возле первой и заглянул внутрь. Один из кузнецов работал у горна. Другой, склонившись над передней ногой уже немолодой кобылы, весившей тысячу восемьсот фунтов, стачивал наружную сторону копыта, чтобы лучше пригнать подкову. Форрест мельком взглянул на кузнеца и на его работу, поклонился и поехал дальше. Проехав около ста футов, он остановил лошадь, вытащил из заднего кармана записную книжку и что-то в нее занес.
По пути он заглянул еще в несколько мастерских – малярную, слесарную, столярную, в гараж. Когда он стоял возле столярной, мимо него промчалась необычная автомашина – полугрузовик-полулегковая – и, свернув на большую дорогу, понеслась к станции железной дороги, находившейся в восьми милях от имения. Он узнал грузовик, забиравший каждое утро с молочной фермы ее продукцию.
Большой дом являлся как бы душой и центром всего имения. На расстоянии полумили его окружало кольцо хозяйственных построек. Не переставая раскланиваться со своими служащими, Дик Форрест проехал галопом мимо молочной фермы. Это был целый городок с силосными башнями и подвесной дорогой, по которой двигалось множество транспортеров, автоматически выгружавших удобрения на площадки машин. Некоторые служащие, ехавшие кто верхом, кто в повозках, останавливали Форреста, желая посоветоваться с ним; по всему было видно, что это сведущие, деловые люди. То были экономы и управляющие отдельными отраслями хозяйства; говоря с хозяином, они были так же немногоречивы, как и он. Последнего из них, сидевшего на грациозной молодой трехлетке – дикой и прекрасной, как может быть прекрасна еще не вполне объезженная лошадь арабской крови – и вознамерившегося ограничиться только поклоном, Дик Форрест сам остановил.
– С добрым утром, мистер Хеннесси, – сказал он. – Скоро она будет готова для миссис Форрест?
– Подождите еще недельку, – ответил Хеннесси. – Она теперь объезжена, и именно так, как этого хотелось миссис Форрест; но лошадь утомлена и нервничает, – хорошо бы дать ей несколько дней, чтобы совсем привыкнуть и успокоиться.
Форрест кивнул, и Хеннесси, его ветеринар, продолжал:
– Кстати, у нас есть два возчика, они возят люцерну… Я полагаю, их следует рассчитать.
– А что такое?
– Один из них новый, Хопкинс, демобилизованный солдат; с мулами он, может быть, и умеет обращаться, но в рысаках ничего не смыслит.
Форрест снова кивнул.
– Другой служит у нас уже два года, но он стал пить и похмелье свое вымещает на лошадях…
– Ага, Смит – этакий американец старого типа, бритый, левый глаз косит? – перебил его Форрест.
Ветеринар кивнул.
– Я наблюдал за ним… Сначала он хорошо работал, а теперь почему-то закуролесил… Конечно, пошлите его к черту. И этого тоже, как его… Хопкинса, гоните вон. Кстати, мистер Хеннесси, – Форрест вынул записную книжку и, оторвав недавно исписанный листок, скомкал его, – у вас там новый кузнец. Ну что, как он кует лошадей?
– Он у нас слишком недавно, я еще не успел к нему присмотреться.
– Так вот: гоните его вместе с теми двумя. Он нам не подходит. Я только что видел, как он, чтобы получше пригнать подкову старухе Бесси, соскоблил у нее чуть ли не полдюйма с переднего копыта.
– Нашел способ!
– Так вот. Отправьте его ко всем чертям, – повторил Форрест и, слегка тронув лошадь, пустил ее по дороге; она с места взяла в карьер, закидывая голову и пытаясь сбросить его.
Многое из того, что Форрест видел, нравилось ему. Глядя на жирные пласты земли, он даже пробормотал: «Хороша землица, хороша!» Кое-что ему, однако, не понравилось, и он тотчас же сделал соответствующие пометки в своей записной книжке.
Замыкая круг, центром которого был Большой дом, Форрест проехал еще с полмили до группы стоящих отдельно бараков и загонов. Это была больница для скота – цель его поездки. Здесь он нашел только двух телок с подозрением на туберкулез и великолепного джерсейского борова, чувствовавшего себя как нельзя лучше. Боров весил шестьсот фунтов; ни блеск глаз, ни живость движений, ни лоснящаяся щетина не давали оснований предположить, что он болен. Боров недавно прибыл из штата Айова и должен был, по установленным в имении правилам, выдержать определенный карантин. В списках торгового товарищества он значился как Бургесс Первый, двухлетка, и обошелся Форресту в пятьсот долларов.
Отсюда Форрест свернул на одну из тех дорог, которые расходились радиусами от Большого дома, догнал Креллина, своего свиновода, дал ему в течение пятиминутного разговора инструкции, как содержать в ближайшие месяцы Бургесса Первого, и узнал, что его великолепная первоклассная свиноматка Леди Айлтон, премированная на всех выставках от Сиэтла до Сан-Диего и удостоенная голубой ленты, благополучно разрешилась одиннадцатью поросятами. Креллин рассказал, что просидел возле нее почти всю ночь и едет теперь домой, чтобы принять ванну и позавтракать.
– Я слышал, что ваша старшая дочь окончила школу и собирается поступить в Стэнфордский университет? – спросил Форрест, сдержав лошадь, которую он уже хотел пустить галопом.
Креллин, молодой человек лет тридцати пяти, рано созревший, оттого что давно стал отцом, и еще юный благодаря честной жизни и свежему воздуху, был польщен вниманием хозяина; он слегка покраснел под загаром и кивнул.
– Обдумайте это хорошенько, – продолжал Форрест. – Вспомните-ка всех известных вам девушек, окончивших колледж или учительский институт: многие ли работают по своей специальности? А сколько в течение ближайших же двух лет по окончании курса повыходили замуж и обзавелись собственными младенцами?
– Но Елена относится к учению очень серьезно, – возразил Креллин.
– А помните, когда мне удаляли аппендикс, – снова заговорил Форрест, – за мной ухаживала одна умелая сиделка – самая прелестная девушка, какая когда-либо ходила по земле на прелестных ножках. Она всего за шесть месяцев до этого получила свидетельство квалифицированной сиделки. И не прошло и четырех месяцев, как мне пришлось послать ей свадебный подарок. Она вышла замуж за агента автомобильной фирмы. С тех пор она все время кочует по гостиницам и ни разу не имела возможности применить свои знания, тем более что и детей они не завели. Правда, теперь у нее опять появились надежды… Но то ли это будет, то ли нет, а пока она и так совершенно счастлива. К чему же все ее учение?..
Как раз в это время мимо них прошел пустой удоб-ритель, и Креллину пришлось отступить, а Форресту отъехать к самому краю дороги. Форрест с удовольствием оглядел запряженную в удобритель рослую, удивительно пропорционально сложенную кобылу, многочисленные премии которой, так же как и премии ее предков, потребовали бы особого эксперта, чтобы их перечислить и классифицировать.
– Посмотрите на Принцессу Фозрингтонскую, – заметил Форрест, указывая на лошадь, радовавшую его взоры. – Вот настоящая производительница. Только случайно, благодаря селекции во многих поколениях, стала она животным, приспособленным для перевозки тяжестей. Но не это в ней главное: главное то, что она производительница. И для наших женщин в большинстве случаев самое главное – любовь к мужчине и материнство, к которому они предназначены природой. В биологии нет никаких оснований для всей этой современной женской кутерьмы из-за работы и политических прав.
– Но есть основания экономические, – возра-зил Креллин.
– Несомненно, – согласился Форрест и продолжал: – Наш промышленный строй не дает женщинам возможности выйти замуж и заставляет их работать. Но не забудьте, что промышленные системы приходят и уходят, а законы биологии вечны.