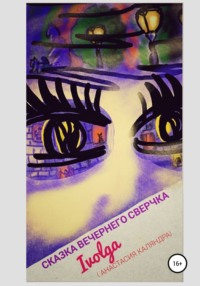Kitobni o'qish: «Сказка вечернего сверчка»
В первых окнах уже загорелся свет. Уже тёплое покрывало темноты ложилось мягко и проваливалось беззвучно между стареньких пятиэтажных домов, густых широких деревьев, и доставало до самого, сухого и пыльного, летнего асфальта. Уже разгоняли его, сурово бранясь, на всякий случай, зажегшиеся по порядку дежурные – рыжие лампы на палочках, уже грозили ему пальцем участники этого, равномерно расставленного по периметру сквера, патруля, и он, этот теплый вечерний туман, пришедший ласковой периной сюда, вниз, беззаботно и весело, задорно даже, убегал от них – больше дразня и не относясь серьёзно, настоль, что бы уж обижаться… И прятался от них, залезая на карачках под самую детскую горку и под карусель, и в тёплые, уютные, сыпучие уголки песочницы, в которых всё укрывала густая, тёмная тень от нависнувших деревянных перекрытий, и оттуда уже, выглядывал, тихо, незаметно… И слу-ша-аал, устроившись поудобнее, как сказку, волшебную замечательную сказку на ночь, то, как дети играли, и спорили, и обижались, и дружились опять, как будто смертельная обида предыдущего момента, куда-то, совсем, вдруг, испарилась, и надувшее губки "я с тобой больше не дружу", превращалось, волшебным образом, в "Ваня, ты в догонялки будешь?"… смотрел, слу-ша-ал, и светло, тихо улыбался. Ему было более, чем достаточно во всём мире, слушать и смотреть на эти простые вечерние детские игры, на первые и вторые окна, загоравшиеся в домах, и думать о том, что же там? Какая замечательная жизнь течёт сейчас?.. Такая же, какая потечет сегодня и для этих ребятишек, когда они вернутся с мамами домой, и мамы детишек начнут готовить ужин, и папы придут с работы… И видеть в небе красивые перья розового цвета, и тёмно-зелёные, пыльные, как будто, кроны-тучи деревьев, и вывески магазинчиков – пусть и старенькие, но та-кие… И, даже и эти фонари – пусть их!.. Всё равно, и на них смотреть приятно. И Игорь его понимал. Очень хорошо. В пятнадцать лет люди очень хорошо начинают всё понимать – дома, деревья, дворы, траву, ветер. Они очень любят понимать, ведь, в первые разы, когда они поймут – у них захватывает дух от того, "как это!.." и не перестаёт захватывать, в таком случае, почти до конца жизни. Они любят понимать, и чувство от этого, совсем такое же, как будто это тебя понимают теперь, а не ты. Они любят, и стараются понимать, и если, даже, понимают не совсем ещё верно, то, всё равно, прекрасно. И, даже то, что они ещё совсем не понимают, им нравится понимать, таким – непонятым.
– И… Игорь!.. Ну, ты чего тут расселся?.. В акулу будешь?.. – запыхавшись выговорила маленькая девчонка, с растрепавшимися, немного, косичками, так, что аж, ветру удавалось, легко, шевелить её тоненькими, легкими волосками, что выбились наружу – все в разные стороны. Она была очень даже серьёзная, но, всё же, смешная. Он всегда хотел улыбаться, когда смотрел на неё. Тем более, ему было забавно, что, вот уже девять с половиной лет она росла рядом с ним, и он видел её ещё совсем мелким карапузиком, а потом – уже чуть более крупненьким, уже разговорчивым и серьёзным, и требовательным. Но, как ему было это смешно, мило и смешно тогда, когда маленький гномик, по колено ростом, ходил с важным видом по комнатам и проверял – как то тут течёт жизнь без её надзора?.. И сурово ковырял пальчиком в своём носу, так и теперь – когда перед ним была уже юная девушка, юная и свежая, как этот ранний вечер – гордая, уверенная в своей красоте и таланте, но, для него, всё ещё – смешной пухленький карапуз.
– Чего ты смеёшься?.. Я, что, клоун тебе, что ли? – сделала вид, что обиделась Лидочка.
– Да, ни-чего… Просто смешная…
– Че-го?.. Я смешная?.. Сам ты!.. – не нашлась, что сказать, – Смешной!
Он, опять засмеялся.
– Да, нет, не смешная, конечно… Просто – настрое-ние…
– Ну, знаешь!.. Плохое твоё настроение. Ты откуда его берешь то, вообще, если сел здесь, на отшибе и сидишь?.. Как филин.
– Пкхх-хх!.. Почему филин?..
– Потому что. Тебе, вообще, что, нравится, что ли, сидеть здесь, на окраине и ни с кем не разговаривать?
– У-гу… – он опустил голову, – здесь красиво. Правда?..
– Н-ну, ты и тетерев, точно!.. – засмеялась Лида и упала с размаху рядом на траву.
– Теперь уже тетерев?.. – поддразнивая заулыбался её брат, – А как же филин, тогда?..
– Ты – оба, сразу… Ой-й, я уже не терплю, как хочу папе показать!.. – она, с счастливым выражением принялась разглядывать свой новенький браслетик из ярких разноцветных бусинок-конфет, на ручке, – Ой-ййй, какая я счастли-ва-я-яяя се-годня!..
– Да… – протянул Игорь задумчиво. В его глазах, тоже светилось счастье. Он, даже не знал, что же было лучше, что же радовало его больше – то, что вокруг был такой красивый вечер? То ли, что сейчас было лето? То, что у папы скоро кончалась работа и, что они все, скоро, соберутся вместе? Или, что такой был вокруг прекрасный вечер – и свет фонарей, и огоньки первых окон, и дети, носившиеся на детской площадке, и кучи шумных тёмных деревьев вокруг, и вывеска магазина – там, вдали, у конца сквера… Но это уже было. Это он, уже, вспоминал. Или то, что они сидели, сейчас, так – тихо, далеко от всего мира, кажется, но, в то же время и в гуще всех тех, самых замечательных ощущений, что он, этот мир, дарил в этот вечер – на склоне небольшого холмика, что был здесь, в скверике, у детской площадки… Сидели, прямо на траве – такой аро-матной, сырой и све-жей!.. Хотя и, местами, колючей. Или то, в конце концов, что у его сестры был разноцветный новенький браслет?.. Ведь, тоже может быть?
– Ну, мне идёт, нет? – обратилось она к Игорю поднеся ручку с браслетом прямо к голове – видимо, для того, чтобы было легче понять- идёт ли он к её глазам.
– И-дет… – ответил тот, с трудом сдерживая смех. – Особенно тебе будет идти, когда ты его уже съешь и будешь доволь-ная!.. Ра-дост-ная!.. И будешь с нормальным лицом, а не таким картинным, как сейчас. Как у куксящейся красотки. – он весело ткнул ей пальцем в нос. – Ты гораздо красивее, когда не красуешься. Ты, даже не поверишь – насколько. Просто загляденье! А не девочка. И ты бы не рисовалась, если бы видела себя со стороны. Ты, когда бегаешь, и вся – растрепанная, лохма-та-я!.. Если б ты знала, какая ты, тогда, красивая!.. – и потряс её за косичку.
– Ну!.. Ты! Ничего я и не красуюсь. Это у меня… природная… красота. – он, опять, не выдержал и прыснул со смеху, – Ты бесчуственный человек какой-то!..
Тут он обиделся. То есть, всего на секунду, потому что, какой бы тебе не казалась смертельной обида, ты не можешь долго обижаться на тех, кого любишь. Но, всё-таки, обиделся. Всегда обиднее, когда кто-то близкий обижает. И, главное – непонятно: как она могла обвинять его в том, что он, как раз, таки, считал полной противоположностью своего характера. Ему и в голову не приходило, что, раз ты скрываешь от всех что-нибудь, то они могут, по настоящему, этого и не увидеть. Он был ещё близок к тем представлениям, которые дают книжки, когда ты читаешь о невозмутимом и стойком человеке, который держит себя, как кремень и только показывает, какой же он грубый чурбан, всем вокруг, а ты читаешь, и по каким-то намёкам, которые автор раскидывает тут и там по страничкам, явно видишь, что он – самый, что ни на есть, ранимый и чувствительный. Но только – этого не показывает. По аналогии, ему казалось, наверное, что и в жизни, каждому из его собеседников что-то должно было бы подсказывать, какой-то, такой же автор, что эта его черствость и безразличность – как раз, таки, именно, признак его глубокой внутренней тонкости. Он многое уже понимал, но самое трудное ещё оставалось впереди – научиться понимать тех, и в тех случаях, когда они, кажется, играют против тебя. Ты этого не понимаешь до последнего, почти. До самого, пока, наконец, не увидишь, что в этом, можешь, даже элементарно, быть виноват сам ты. Сложно понять то, как это так, именно, другие будут понимать тебя. Это сложно понять, потому что здесь тебе мешает боль. И особенно трудно понять, когда она от близких. Это трудно. Трудно понять и их, потому что они, в свою очередь, закрывают своё настоящее от других, да и потому, что к ним у тебя особые требования – от них ты ждёшь большего… И трудно понять их, если они не понимают тебя. Потому что ты, точно так же, закрылся. А для начала, что бы, хотя бы попробовать, нужно понять ещё и что нужно понять. И это всё тянется, к сожалению, зачастую очень по долгу.
– Для тебя, вообще, как будто нет никого родно-го, близкого… Дорогого. Ты какой-то чурбан нелюдимый. Сентиментальности в тебе нет.
Тут он, уже смог посмотреть на неё, наконец, больше в удивлении, чем в каком-то, таком, обидчивом состоянии. Он никак не понимал – как же это можно?.. Доставать из самой середины своего сердца такие откровенные слова и смело выкидывать их наружу? Это, ведь, всё равно, что взять и вывернуть всю свою кожу наизнанку, так, что тогда, даже самый тёплый и ласковый ветерок, может резать по ней… так, как это бывает на маленькой ранке, что на запястье или коленке образуется вдруг, когда ты бежишь стремглав через площадку, где внизу понасыпано куча гравия, не смотрев под ноги, на этот гравий, и вдруг оказывается, что вынужденно должен смотреть уже лишь на него – потому что стоишь на четвереньках, в лучшем случае, и направлен, совершенно, носом вниз, а ладошки вот-вот начнёт печь и жечь… Когда ты поднимешь их и увидешь, что они все в тоненьких кривых линиях царапин и присыпаны все чёрной лёгкой пылью… А подуешь на них – ещё больше прорежет, зажжёт. Как так можно было?.. Вытаскивать всё это наружу?.. Он никогда не понимал тех людей, кто так мог. "Может быть?.. – теперь у него закралась мысль, глядя на то, как беззаботно она проговаривала это, сев рядом и болтая ножками, их же, параллельно, и разглядывая, – Может быть, для тех, кто может это так свободно говорить, все эти слова – не что-то, сросшееся с самим тобой, там, глубоко в сердце, а просто – что-то упавшее откуда-то из вне им на кожу и не успевшее ещё прожечь дыру до глубины, а, так и лежавшее где-нибудь, в кармашке, куда они, как интересную штукенцию, такую, положили к себе, на черный день и, если вдруг подвернулась уж, возможность – употребили, надели, наконец, как кофточку, которая висела, чего-то, давным-давно в шкафу… И теперь, сами же, не понимают – почему это, другой, какой-то человек отворачивается, отводит глаза и не хочет на них вовсе смотреть?.. Может быть для него эта кофточка – сама дорогая и любимая вещь."
– Это ты, просто злишься, за то, что ты такое не можешь носить… А я могу. Потому что мальчики браслеты не носят.
И он, опять заулыбался. Она, снова, стала такая – смешная, смешна-ая!.. Он ещё раз посмотрел на неё – проще, не принимая близко к сердцу. Ну-у, точно – она была, ещё ребёнок. Совсем глупышка, в чём-то, и наивная. Ему показалось, даже странным, то, та мысль, что кто-то может ещё не понимать – ведь, действительно! Может ещё не понимать тех вещей, о которых он уже знает давно, то, что для него уже стало очевидностью. От этого он, даже выпрямился, и ещё, с удивлением принялся смотреть на неё. И в нём проснулся, даже, некоторый страх и тревога – трепет, из-за того, что в его руках была совсем ещё юная душа, как чистый, почти, лист бумаги, то есть, она, ведь, зависела ещё и от того, о чём он будет с ней говорить?.. От того, что он ей покажет своим примером? Так замирают, наверное, над каким-нибудь лёгким, лёгким препаратом, который лежит на тоненьком стеклышке, и, вот, только подуешь на него, и он, чего доброго, и улетит куда-нибудь. И ещё, внутри загорелась надежда – большая и радостная, о том, что, ведь, и он может, хоть в чём-то, определить становление её – её внутреннего мира… И, чего только не может он вложить в него, открыть для неё и вписать на карту этого мира нового, прекрасного!..
– Да, да, злишься… И завидуешь. – она легко повернула и наклонила к нему головку, – Ну, ничего, я тебя угощу, когда мы его ку-шать бу-дем…
У него внутри стало тепло – "Какая же она, всё-таки!.. Как много всего хорошего, что уже лежит, как поч-ва! Как много на ней может пре-красного вырасти!"
– Спасибо… Ну, я не буду злиться, ладно… Уговорила. – весело добавил он, глядя на неё, и, теперь уже сомневаясь, даже, что же стоит ему, а что – нет, говорить. – Тем более, у меня же моя, тем-ммм-мная метка!.. Это – моя пр-ррр-рирод-ная кррр-расота! – подшутил он, манерно приставив правую руку с большим, довольно таки, родимым пятном у большого пальца, которое она, шутливо называла тёмной меткой, когда они играли в пиратов, к лицу.
Она засмеялась.
– Глуп-ыыы-ый!.. Ха-ха-хэх!.. Ой-йй… – выдохнула долго. И они немножко помолчали. – Ка-ккк сверчок трес-кочет, а-аа?..
– Да… – кивнул он.
– Ин-тересно, о чём же это мож-но петь, в такое темное время?.. Уже всем спать пора…
Её брат посмотрел на неё смеющимся взглядом – уж ей то самой и в гораздо более позднее время ничего не говорило о том, что пора спать…
– А знаешь, – начал он, радостно, – есть такая сказка про сверчка… Вечернего.
– И, какая это сказка? Прям, про вечернего?
– Ну, вот, одним вечером сидели двое ребят на небольшом холме… Они были брат и сестра.
– Ага!.. Ну, ну?
– Они сидели… И им очень нравилось сидеть.
– Только трава сильно кололась.
– Да, кололась так, что было, аж, весело, и хотелось смея-яяться, просто так!.. Тем более, что и вокруг было та-аа-ак красиво!.. И вот, девочка, которая сидела и задумчи-во любовалась на то, как в небе разгорался прекрасный розовый закат…
– Ничего я не любовалась!.. Я, вообще, к нему спиной!
–…Потому что ей это было гораздо интереснее, чем носиться в догонялки…
– Ах, вот, они, какие у тебя – истории!.. А я то думала всё – что же он там пишет?..
– Ну… Не всегда такие. Эта – сегодня только… Да и, правда, чего было носиться по детской площадке, когда здесь, отсюда… открывался такой ми-ирр! Отсюда казалось всё таким дальним, и таким близким, таки-им большим и необъятным – как, когда зимой, вечером, катаешься на снежной горке, вот, здесь же, даже, с холма, и вдруг ляжешь на снегу… И смо-оо-отришь на звёздное небо!..
– И смотришься со стороны, как порядочная морская звезда!..
– И… вот, но, одновременно, тебе сейчас всё кажется и таким же далеким, огромным и необъятным – всё, что тебе дорого. Но и та-ким понят-ным. И это замечательное ощущение, подумала девочка, когда видишь так, со стороны, все обычные, родные, простые мелочи своего привычного мира, и они кажутся отсюда чем-то большим, непрекращающимся – тем, что было уже, и будет ещё. И, как будто оно – такое же непреходящее, как и звёздное небо, и тебе никогда не придётся с этим расставаться…
Здесь Лида не стала спорить – а чего спорить всё время? Тем более, что тебе тут приписывают такие, какие-то непонятные, сложные, а значит, наверное, умные мысли… Да и, ей показалось, что что-то такое, она, и правда, видит вокруг – голос брата, всё эти слова, кажется, ложились на землю постепенно, как вечерний туман, и, как бы там… понимала она их все, или не до конца понимала, но от них, лично ей, становилось тепло, и всё меньше хотелось уже уходить на детскую площадку. Хотя, думала она, может быть, это просто, как от колыбельной – засыпа-а-ешь… Ну и, ничего. Здесь хорошо бы заснуть – на свежей, ароматной, колючей траве… Только понять бы, ещё, сперва – куда это звёздное небо "непреходящее" не приходит?..
– И, вот, она сидела, смотрела и слушала… И, очарованная пением вечернего сверчка, спросила – сама у себя, или у вечернего воздуха… – у Лиды округлились глаза – уж у воздуха она ещё не додумывалась раньше ничего спрашивать, – Спросила: "А о чём это поёт, интересно, в вечеру сверчок?" И мальчик, тоже задумался – о чём?.. Ведь… Вот… Живёт сверчок на свете, и никто его не видит – сидит он где-то там, в свежей, сырой траве, и ни-когда, ни-кто, может быть, его до самого конца его жизни и не увидит. И, вроде бы, простое создание – и не такое, прямо, высоко интеллектуальное, как человек. Ну, хотя, может, это нам, только, так кажется. А, вот, всё-таки, он каждый день, почти – летний день, поёт, где-то там, в траве, и все люди гуляют, на ночь глядя, и слушают. И это пение остаётся в них, в памяти, одной, такой, чертой лица летних вечеров… – Лида прыснула от смеха в ладошку. Но у него было слишком торжественное и радостное состояние, что бы обижаться, – И все его помнят. Даже если и забывают, именно о том, что слышали его, что именно сверчок пел в те, летние, вечера, но когда они, потом, зимой, когда-нибудь, или весной, станут вспоминать своё лето – они вспомнят небольшие дома, пяти- и девятиэтажки, с их зажженными окнами – как светом в китайском фонарике, который прорывается через прорези… Вспомнят пыльные темные шумящие тучи крон, в которых тонули эти фонарики… Вспомнят тёплый и сухой асфальт, по которому шагаешь, и с каждым шагом – всё тише и спокойнее. Вспомнят даже шумные игры детей и смех, и разговоры взрослых, но во всём этом – и в шумном, и в тихом, и в том, что видел, и в том, что слышал, и в радостном всём, и в задум-чивом, то-ооо-онень-кой чертой оставил свой летний голос этот маленький и незаметный свер-чок, который… Который, как метроном отсчитывает мгновения летне-го вечер-него времени…
– Ого-о!.. – поддразнила Лидочка, – Да это – уже вы-со-кая литература!
– Так, вот… для чего же он сам поёт?.. Знает он? А может быть и не знает, совсем, что целый город его слушает, фоном, не замечая, но слушает и впускает в ощущения, в воспоминания и в… Ну, собственно – что из этого? Свой мир… Так сказать. – он и сам, иногда, подсмеивался над собственными словами. Чтобы не совсем показывать, что это всё на серьёз. Это уж слишком сложно – говорить откровенно о том, что у тебя где-то глубоко и не прикрыться, хотя бы, смешком. Ведь у людей, всё время, срабатывает какой-то злой рефлекс – всё, что они видят сокровенного для кого-то, чего-то, что было у него, до этого, явно, глубоко где-то – их так и подталкивает, сразу же, подрезать этому ноги. Уж лучше, пусть эти вещи выходят изнутри, из своих тёплых укрытий, как разведчики – замаскированные в камуфляж под беззаботных и легковесных весельчаков. Так легче. – И, что же?.. Вдруг, ви-дят они – выходит из-за хол-ма боль-шой, большой сверчок!
– А-га?!.
– Да-а… Идёт к ним… И выглядит как истинный джентельмен – весь прилично одетый и по всей современной моде…
– В сине-бело-оранжевой кепоч-ке?!.
Она указала, хитренько и весело на лежавшую на траве рядом кепку. Они всё время смеялись из-за неё, потому что он носил, и не мог с ней расстаться уже несколько лет, а вид у неё был, по правде говоря, детский. Уж, сколь-ко она летала туда-сюда и сколько использовалась ими, то, как мячик, то как игрушка, то, как, вообще непонятно, что.
– А, как ты догадалась?!. – подшутил Игорь, – И вот, идёт он в своей супер элегантной и невероятно сногсшибательной кепоч-ке… С зонтиком…
– А зон-тик ему за-че-ее-ем?.. – смеялась Лида весело, и Игорь, тоже смеялся, – Дождя, вон, не собирается! От солнца, тоже, простите меня, защищаться уже позд-но!..
– Н-ну, это ему – на всякий случай, чтобы от чего-нибудь защищаться – от чего придётся. Мало ли?.. И вот, он идёт, кланяется, снимает шляпу… Кепку, пардон, делает реверанс, говорит: -"Добрый вечер!.. Премилостивые сударь и сударыня школьники!.."
– Хи-хи-и!.. – она уже и не переставала, кажется, смеяться, прижав ручку к губам и всё время весело, с интересом смотрела на брата.
– Целует ручку у да-мы… Говорит: -"Какой у Вас потрясающий брас-лет, леди!.. Я, даже завидую Вам, просто, что мы, сверчки, такое не носим! – и подождал, пока Лида не насмеется достаточно, а то, ведь, так, как она – рухнув уже лицом вниз на свою ладошку и чуть не захлебнувшись от собственного смеха, никто, наверное, не сможет ничего больше по нормальному услышать. – А ещё, говорит, Вам очень, всё-таки, идёт, когда Вы, вот так вот не кукситесь…"
Тут Лида шутливо набросилась на него с кулачками, как это для них было привычно, и после некоторого времени, ушедшего на их веселую "драку", он, всё-таки "победил", и обездвижив соперницу весело встряхнул её, и так, растрепанные, волосы, со словами:
– Вот та-аа-к Вам и-дет!.. – и так ему было хорошо и радостно, и так много всего ещё было впереди, что он, даже, сам не зная почему, поцеловал её в лоб.
– Н-ну, лад-но!.. И что там было дальше?.. – и она уселась, опять, рядом – запыхавшаяся и растрепанная вся, но уверенная и властная.
– Ну, вот. Он говорит: -"Я к Вам пришёл, ваше сиятельство дети, ради того, чтобы ответить, в меру моих скромных сил на ваш, в меру ваших сил нескромный вопрос. Я пою, да, я пою. Но консерваториев не заканчивал… И Вы зря смеётесь, молодая леди, потому что голос у меня, всё равно, не академический, и весьма… Да и профес-сия у меня совершенно другая. Я преподаватель. Я преподаю детям… И взрослым, когда они все на каникулах!..
– Ой-йй-й!.. – скривилась Лидочка, сделав расстроенную гримасу, – И тебе не надоело?.. Опять ты про уроки?!.
– Не переживайте, юная мадам, говорит сверчок, мой предмет – весьма нескучный. И Вы его проходите, совсем не замечая. Вот и сегодня уже пол вечера проходили, и вчера… И позавчера, когда изволили идти с мамой из магазина, и откушать морожен-нн-ное… Кстати, хочу Вам заметить, что в следующий раз советую Вам попробовать тот стаканчик с крем-брюлле, который ел Ваш брат – он весьма лучше, на мой взгляд, чем то эскимо, что избрали Вы… Не брат – а стаканчик. Брат, конечно же, лучше и того и другого. Но, так вот, чему же, Вы думаете, я Вас учу?..
– …М-мнм-мм… Разби-раться в сортах мороженого!..
– Нееет, увольте – я бы мог Вас учить разбираться в "сортах мороженого", только если бы эти сорта росли на деревьях… Но, ведь, категорически нет! Они растут в холодильных ящиках в магазине!.. – " Хи-хи-хх" от Лиды, – Я учу Вас некоему другому. Я, со своей стороны, веду урок звуков, вместе с деревьями – видите?.. Поглядите ка, как они стараются Вас научить?.. Тааак и шуршат, и шуршат, и качаются, как платья дам в кренолинах на балу… Ещё урок звуков ведёт любая проезжающая машина, и ветер, чьё-то радио из окна, или вилки с ложками, которые воспитывают Вас обязательно в паре с тарелками… мама какого-то карапуза, которого она убеждает: "слезь! ", там – на детской площадке. Но это – мы, а ещё – есть уроки видения, тут уж, Вам учителя – всё, что Вы видите – небо, с его закатом, дома, с их огоньками окон, магазин с его яркой, сияющей вывеской, дороги… Асфальт. Сухой, с виду, но мягкий, на самом деле, учитель. По нему, вообще-то, чуть что, и топчутся все, кому не лень… А есть – учителя ароматов… Это, знаете ли, и шашлыки, которые жарятся кем-нибудь среди кустов в городском сквере, не смотря ни на какие там запреты… И аромат супа, который готовит Ваша мама на ужин, и запах свежей сырой травы, на которой Вы сидите, и даже, то самое эскимо, которое Вы избрали себе в качестве угощения позавчера вечером, тоже учит Вас своим нежно-ванильным, с терпкой шоколадной ноткой, ароматом… Конечно не так хорошо учит, как уже более умудренный стаканчик крем-брюлле, что в руках Вашего брата…
– Ннну, конечно!.. Хахэх, более умудренный!.. Ты всегда так долго ешь, что у тебя что угодно перед тобой на тарелке состарится!..
– Так вот… Мы, многие, учим, у каждого из нас есть свой, особенный урок – это какой-то штрих мирового огромного, разнообразного наполнения. Как в вашей школе вас учат физике, химии, алгебре… Ну, Вас то, ещё, может быть, и не всему этому, юная леди… – она надулась смешливо, – Но всё это – разные стороны, разные грани и явления большого мира вокруг. Так и мы – учим не точным наукам, а ощущениям, тем… чувствам, что вы испытываете. Радость, счастье, любовь… – ему стало тяжелее рассказывать и голос, сам, начинал затихать и дрожать, а глаза, сами, куда-то прятались. – Мы всё это рассказываем, и каждый – по своему, со своей стороны. Только… Уроки у нас… Получаются разные – когда удачные, а когда, нет – это всё зависит от вас – какие вы ученики. Иногда вы аболтусы – мы говорим вам, почти кричим, уже, на вас, а вы, всё норовите смотреть в окно, болтать, отвлекаться, думать о чём-то своём, что кажется вам важнее. Или, даже, вообще, начинаете бегать и носиться, как оголтелые, бегать вдоль и поперек своей жизни и ничего, ровным счётом не слышите, пока, может быть, уже совсем, только, не запыхаетесь и не остановитесь отдышаться, опершись ладонями на коленки. И тогда уловите, ещё, может быть, пару звуков. Вам становится плохо, когда вы не слышите, но вы этого, часто не замечаете, не можете, просто, понять – от чего это?.. Такие, неприлежные ученики, а особенно – те, кто сам не хочет, ни в какую, слушать нас, те, в основном – слушают нас, и слышат, как неприятных, злых, надоедливых зануд. И это очень плохо – но самое обидное, это… Ну ладно, пока. Но Вы, молодцы – Вы сегодня пришли на мой классный час и сидите, послушно, слушайте… Мне кажется – вы из тех, кто, любит, не просто слушать, но и задавать вопросы, просить рассказать ещё. Верно?..