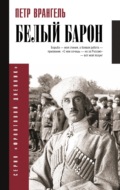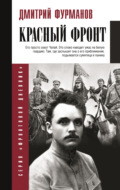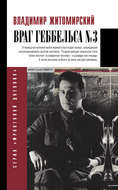Kitobni o'qish: «Записки Ивана, летучего голландца», sahifa 2
В соседней комнате, где проводились наиболее неотложные и тяжелые операции, также находились раненые офицеры. Оттуда доносились стоны – операции и ампутации делали без наркоза.
Рядом со мной на полу лежал еврей. Сначала мне показалось, что он выглядит неплохо. Но, видимо, ничего вокруг не замечал и что-то бормотал про себя. Присмотревшись, я поразился беспомощности этого молодого, хорошо сложенного тела. Затем я обнаружил, что его рубаха разорвана, а в широкой мужской груди насчитал шесть пулевых ранений. Было непонятно, как он еще жив. Он приподнялся и уставился прямо перед собой. Я понял, что он не в себе и внутренне уже умер.
В сравнении с бедственным положением солдат, окружавших меня, мою рану можно было назвать легкой. Доктора и сестры не имели ни одной свободной минуты. Три дня и три ночи они непрерывно занимались пациентами, но все равно люди умирали сотнями, не дождавшись своевременной медицинской помощи. Сестры, стиснув зубы, молча делали перевязки, утешали раненых и накрывали простынями тех, кто скончался, обретя вечный покой. Несмотря на то, что эти женщины не бросались в бой на врага с криками «Ура!», их можно считать настоящими героинями.
Мы лежали, ожидая помощи. Для многих она пришла слишком поздно, и еще не остывшее тело уносили, освобождая место другому. Поступали все новые и новые тяжелораненые. Было бы, наверное, более гуманно закончить жизнь некоторых страдальцев револьверной пулей. Снаружи тела складывали в штабеля. Похоронные команды не успевали закапывать умерших. На это никто не обращал внимания. Мне казалось, что я нахожусь в огромном, зловещем доме мертвых.
Я уже почти потерял сознание, когда почувствовал, что что-то подкатилось ко мне сбоку. Я открыл глаза. Рядом лежал еврей. Он был мертв, и, наконец, освободился от боли и страданий. Я осторожно оттолкнул и перевернул тело, так как не мог смотреть на его раны.
– Так, что здесь у вас?
Я поднял взгляд и увидел молодого доктора, склонившегося надо мной. По его глазам было заметно, что он уже долго не отдыхал. И все же ему хватило сил улыбнуться. Осматривая мою ногу, он постоянно покачивал головой и заключил, что меня необходимо отправить в госпиталь в Петроград. Я едва сдержал крик радости. Я мечтал о покое, отдыхе. Совсем не героическое желание, но так хотелось поскорее убраться из этого ада. Все здесь думали о том же, хотя хорошо понимали, что после выздоровления немедленно вернутся в строй.
Огромные санитарные грузовики были готовы в любой момент отвезти раненых на вокзал, откуда поезда отправлялись в долгий путь в Петроград.
Хотя мою ногу хорошо перевязали, боль не утихала, и я не был удивлен, когда один из врачей сообщил, что есть риск осложнений. Ведь я был ранен в час дня, и только после полуночи мне сделали перевязку и отправили в госпиталь.
Из машины Красного Креста мы наблюдали за марширующими мимо молодыми солдатами. В их глазах светилась любовь к Родине, а медные пуговицы и примкнутые штыки сверкали в белом свете луны. Я задавался вопросом, о чем они думают, когда видят проходящие мимо госпитальные машины. Понимают ли они, что раненые тоже когда-то были молодыми и отважными солдатами? Однако теперь наш патриотический порыв значительно ослаб.
Новобранцы были готовы отдать свою жизнь за Родину, но кто знает, возможно, им придется потерять ноги, руки, глаза или слух и всю оставшуюся жизнь влачить жалкое существование калеки в богадельне, скрытой от человеческого взора. Сейчас они стояли на пороге великих приключений и думали, как напишут об этом домой. Но смогут ли они это сделать, если у них останется хотя бы одна рука, чтобы писать?
Вагоны санитарного поезда были далеки от совершенства, но они уносили нас прочь от театра боевых действий, и мы без сожаления терпели любые неудобства. На фронте и в полевом госпитале у нас не было возможности помыться, мы даже не имели запасного комплекта нижнего белья, поэтому неудивительно, что наши тела кишели вшами. Весь день раненые занимались простейшим способом «сухой чистки» – вши с треском исчезали в языках большого пламени, у которого мы теснились по вечерам. Снаружи трещал мороз, и никому не хотелось выходить на свежий воздух.
Наконец мы добрались до Петрограда. Госпиталь, в который я попал, находился в здании Политехнического института. Я оказался одним из первых Георгиевских кавалеров, поступивших сюда на лечение. Сестры и санитарки Красного Креста наперебой старались заполучить такого героического пациента в свое отделение. Но я безразлично относился к этим знакам внимания и проявлениям симпатии, так как чувствовал себя настолько плохо, что испытывал только одно желание – оказаться в мягкой постели. Долгие месяцы я не спал на кровати и не принимал ванны. Когда меня из горячей ванны аккуратно перенесли в упоительно чистую постель, мне показалось, что я на небесах, и каждая сестричка казалась мне ангелом на земле.
Глава 3
Мне бы в небо!
Я оказался в просторной палате, где со мной лежало еще около сотни солдат. Хотя наши ранения не считались серьезными, мы надеялись, что нас не отправят на фронт в ближайшее время. Все мы старались создать видимость, что еще не полностью выздоровели, в расчете на то, что выздоровление займет еще несколько месяцев. Доктора быстро поняли наши уловки, но, не желая конфликтов, докладывали начальству: «Хотя пациент и идет на поправку, процесс выздоровления продвигается медленно».
Сестра милосердия, в которую я влюбился, оказалась дочерью секретаря Великого князя Александра, основателя российской авиации. Мы часто беседовали о его усилиях по развитию воздухоплавания в нашей стране и о подвигах русских военных летчиков. Меня захватывали рассказы о их приключениях, и я был готов выпрыгнуть из своей больничной койки и отправиться в летную школу. Отважные молодые парни в щегольских мундирах производили на меня глубокое впечатление. Я начал мечтать о полетах и решил подать прошение о поступлении в военную авиационную школу, как только моя нога заживет.
Однако боль в ноге становилась все сильнее, и я понимал, что что-то идет не так. Когда я спросил доктора, что происходит, он ответил, что необходима ампутация. Это известие пронзило мое сердце страхом и означало, что моим планам пришел конец. Врач равнодушно отреагировал на мой отказ от операции, его мнение не изменилось, даже когда я выразил сомнение в его компетентности. Он продолжал настаивать на своем. Хотя специалисты сделали все возможное, вероятность дальнейшего воспаления раны оставалась слишком высокой. Передо мной стоял выбор: потерять ногу или умереть. Не самая приятная перспектива! Но я все же не хотел верить врачу. Он был еще молод и, вероятно, благодарил небеса за возможность проверить свои теоретические знания на практике. В мирное время ему пришлось бы ждать такого случая годами. Метод молодых докторов в сложных ситуациях заключался в одном – резать! По всей видимости, мой врач хотел попрактиковаться в проведении ампутации и не собирался упускать такой прекрасный случай.
Все эти дни меня не отпускала кошмарная мысль об инвалидности на всю оставшуюся жизнь. Ночами я не мог заснуть. Когда сестра приходила поправить мне подушку, я радовался, что есть хоть кто-то, кому я могу излить свою душу. Сестры милосердия, очаровательные юные дамы, добровольно приходившие на помощь, утешали нас. Бородатые мужчины не стеснялись плакать при них и относились к ним как к своим матерям, хотя на самом деле они годились этим девушкам в отцы.
Очевидно, моя сестра милосердия была знакома с привычкой нашего молодого доктора сразу прибегать к ампутациям. Однажды она поддержала меня, сказав: «Твоя нога не в таком уж плохом состоянии, чтобы ее ампутировать». Ее слова, учитывая ее знания о ранах, наполнили меня счастьем. Я решил бороться за сохранение ноги. Если мне дадут хотя бы несколько дней отсрочки, и это не ухудшит мое состояние, возможно, я получу шанс сохранить ее. На следующий день я сообщил врачу, что отказываюсь от ампутации. Он страшно разозлился и заявил, что снимает с себя всякую ответственность. Две недели я дрожал от страха, но затем пошел на поправку и даже начал неуверенно ковылять на костылях. Доктор признал свою неправоту.
В этот период слово «революция» стало звучать повсеместно. Волна общественного недовольства нарастала. Госпитали, где упавшие духом люди боялись отправки на фронт, стали благодатной почвой для работы многочисленных революционных агитаторов, которые умело использовали создавшийся психологический климат. Новые теории о том, что правящий класс, развязавший войну, не способен управлять страной, быстро приживались в этой среде. Вечерние часы проходили в бурных политических дебатах. Серьезные, хорошо образованные молодые люди, присаживаясь на мою кровать, спрашивали, за что я воюю и какова цель войны. Их прямые и четкие аргументы в спорах, абсолютно точные замечания демонстрировали, что они достигли огромных успехов в деле революционной пропаганды. Страдающие раненые солдаты с удовольствием слушали подобные речи. Агитаторы переходили от койки к койке, из палаты в палату. Позднее эта работа стала еще более организованной. Революционеры держали раненых в курсе событий на фронте, но приносили мало хороших новостей. Русские отступали. Каждый знал это, хотя газеты старались изо всех сил поддерживать воодушевление.
Дни, проводимые в госпитале, я коротал в коротких неспешных прогулках по всем этажам и залам. Операционная представляла собой пустое помещение с деревянными столами, на которые укладывали пациентов. Не хватало обученных хирургов и антисептических материалов, недоставало эфира и хлороформа, и мне нередко доводилось видеть, как солдата оперировали без анестезии.
Но среди этой боли и трагедии находились и мгновения счастья, покоя. Сестры милосердия имели хорошее чувство юмора, они были хохотушками. Это действовало на нас отвлекающе, учитывая, что многие из нас не потеряли желания смеяться.
Каждое утро нам измеряли температуру, и мы старались поднять столбик термометра как можно выше, потому что от этого зависело наше питание. Чем тяжелее состояние пациента, тем лучше его кормили. Сестричка, засунув нам градусники подмышку, уходила на пару минут. Тотчас мы его вынимали и сильно терли о шерстяное одеяло, а затем вновь отправляли подмышку.
– Хм, какая высокая температура, – удивлялась моя сестра. – Что с тобой случилось? Тебя что-то беспокоит?
– Я чувствую себя сегодня не очень хорошо, – отвечал я.
Хотя я шел на поправку, сестра все же говорила, что я еще очень слаб. Наконец-то к столу подадут отборные блюда!
У наших сестер милосердия были поистине золотые сердца.
Время бежало быстро, и вскоре мне предстояло покинуть госпиталь. Я торопился, так как хотел попасть в авиацию. Удастся ли мне? Я обратился за помощью к своей сестре и спросил, не сможет ли ее отец замолвить за меня словечко. Я заверил ее, что не боюсь возвращаться обратно в окопы, но считаю, что в авиации смогу сделать для моей Родины гораздо больше, чем в пехоте. Она рассказала обо мне отцу, который даже пришел навестить меня и пообещал помочь.
Я написал прошение, и в тот же день мои бумаги ушли в Военное министерство с приложенным письмом от секретаря Великого князя. Я понимал, что придется подождать некоторое время, пока мои бумаги пройдут по всем официальным инстанциям. Важно было получить ответ до того дня, когда я выпишусь из госпиталя и окажусь в действующих частях на передовой.
Настал день моего выздоровления. Попрощавшись с друзьями и сестрой милосердия, я отправился в 76-й запасной батальон, квартировавший в Нарве. Я продолжал надеяться, что до моего отъезда в полк получу предписание о переходе в авиацию.
Сначала меня отпустили в отпуск. Я увидел, как гордятся мной отец и мать, когда в форме и с Георгиевским крестом 4-й степени на груди вошел в родной дом во Владимире. Они давно простили мне мой побег.
Мать разными способами пыталась удержать меня от возвращения на фронт.
– Что ты, матушка, – говорил отец, и голос его дрожал. – Ты же понимаешь, что Иван должен вернуться.
Да, мне скоро предстояло вновь покинуть родной дом, но теперь я был не столь решителен. Получить награды – одно, но выжить – совсем другое. Я уже стал героем, но теперь под крестом на груди затаилось чувство страха.
Я и теперь часто вижу перед собой своих родителей в день разлуки. Мать плакала, ее глаза покраснели. Отец не показывал своих эмоций. Он был консервативен и считал своим долгом отдать своего сына, самое дорогое, что у него есть, для великой цели – защиты Родины.
Последовавших в России событий он не пережил. В 1920 году отец умер от тифа.
Месяц отпуска – счастливейшее время, проведенное с семьей. Но ночами я не мог спать. Меня не отпускал ужас перед возвращением на передовую. Услышав, как мать поднимается по лестнице и входит в мою спальню, я закрывал глаза. Когда она склонялась над кроватью, я с радостью целовал ее, но просил дать мне выспаться. Роль героя, которую я играл во Владимире, была мне невыносимо тяжела. Здесь же я еще раз твердо решил пойти в авиаторы.
Когда отпуск закончился, мне следовало вновь отправиться из Владимира в Нарву. Вечер перед отъездом прошел в необходимых сборах. Я погладил форму, набил вещевой мешок – все было собрано. Ночью я не сомкнул глаз.
Прибыв в Нарву, я получил приглашение посетить оперный театр. Представляли «Жизнь за царя»3. И хотя этот спектакль – чистая пропаганда, день прошел замечательно. После тягостей фронта и страданий в госпитале вечер в театре остался для меня незабываемым.
Я мечтал уйти из пехоты. Наиболее страшное для меня воспоминание – грязь в окопах. Мое желание уйти в авиацию росло. Я ежедневно размышлял о тренировках на аэродроме. Прежде я ничего не знал о самолетах и совершенно не имел представления о чувствах первых летчиков, отважных ребят, вершивших историю в самых первых воздушных боях. И вот наконец в полночь я услыхал, как дежурный выкрикивает мое имя. В одно мгновение я вскочил с постели. Он вручил мне запечатанный конверт из Увофлота. Я торопливо его разорвал и с трудом сдержал вопль радости. Мне предписывалось явиться в 1-й авиационный парк.
Слава богу! Петроград, авиация! Сестра милосердия! О, эта сестра милосердия! Я не мог и мечтать о большем! Наверное, так чувствовала себя Золушка, когда приехала в хрустальной карете на сказочный бал. Как мне завидовали мои однополчане! Как велико было мое сострадание к людям в серых солдатских шинелях, которых утром ожидал поезд, увозивший их на западный фронт! Мой поезд отправлялся на восток, в Петроград.
Наступил новый этап в моей жизни!
Глава 4
Первый полет
Когда я был маленьким, меня очень привлекала семья скворцов, которая жила в начале лета в лесу недалеко от нашего дома. Я часто убегал туда и целыми днями наблюдал за ними, чтобы не пропустить ничего интересного.
К счастью, птенцы росли очень быстро, и вскоре они уже сидели в ряд на краю гнезда, а их родители суетились вокруг в поисках еды. Однажды самый крупный из малышей, кувыркнувшись, выпал из гнезда и, громко пища, упал на землю. Его мать-скворчиха, убедившись, что с ним все в порядке, полетела прочь. Малыш беспомощно последовал за ней, сначала больше прыгая, чем взлетая. Но, глядя на нее, он быстро научился летать самостоятельно. Через несколько дней, когда и другие птенцы стали уверенно пользоваться своими крылышками, вся семейка перебралась вглубь леса.
В то время, когда я учился летать, мы были похожи на этих птенцов. Начинающий авиатор сначала осваивал приборы своего самолета, а затем должен был подняться в небо – один! Полет скворца несложен и длится недолго – от гнезда до земли. А юному пилоту предстояло сначала разбежаться и взлететь, а затем суметь вернуться на летное поле!
Первые уроки заключались в том, что я сидел позади инструктора в открытой гондоле и повторял за ним все движения. Для этого приходилось, перегнувшись через его плечо, держать свою руку поверх его кисти. Когда я решил проявить самостоятельность и потянул ручку управления на себя, аппарат круто ушел вверх. Я испуганно вдавил ее обратно, и мы чудом не задели верхушки деревьев.
Весной 1915 года я получил приказ о переводе из Военной авиационной школы в Гатчине в Школу авиации военного времени Императорского Московского общества воздухоплавания. Тогда же меня, еще имевшего смутное представление о том, как нужно управлять самолетом, после трех с половиной часов наблюдения за инструктором отправили в первый самостоятельный полет. В это памятное утро я был слишком возбужден. Мне предстояло самостоятельно держать ручку управления «Фарманом-4», самолетом с ротативным мотором в 50 лошадиных сил, развивающим скорость почти в 70 км/ч. Корпус с открытой кабиной пилота не представлял ничего особенного. Приборная доска, как и в предвоенном автомобиле, отсутствовала. Только два указателя – высотометр и счетчик оборотов. Как ученики умудрялись хорошо ориентироваться с их помощью, остается для меня загадкой.
Пока аппарат, сверкавший в утренних лучах, выкатывали из ангара, пришел капитан летной школы с приказом, предписывавшим мне самостоятельно подняться в небо. Я скорее удивился, чем испугался. Хотя для страха было достаточно оснований. Повредить в этой ситуации машину означало для начинающего авиатора немедленное возвращение назад в группу теоретических занятий. Так непослушного ученика отправляют на заднюю парту.
– Прежде всего не забудь выключить мотор, когда начнешь планировать, иначе это будет твое последнее приземление!
Запомнив эти воодушевляющие слова, я забрался в кресло пилота, надел летный шлем и потуже застегнул меховой воротник. В голове теснились разные мысли, но порядок действий никак не удавалось выстроить в логическую цепочку.
– Не сиди там, как болван при смерти, – раздалось снизу. – Давай газ! Представь, что находишься на ковре-самолете!
Я послушно включил мотор и увидел, как механик поднялся на цыпочки, вращая пропеллер. Машина сильно задрожала и затряслась, и этот оглушительный грохот зазвучал музыкой в моих ушах. Хмельной от возбуждения, я тронулся в путь.
Ветер дул мне в лицо, и до меня дошло, что его порывы могут влиять на взлет и посадку. Я дал полный газ. Казалось, все 50 лошадиных сил взорвались, и самолет рванул вперед, как гончая за зайцем. Я направил машину прямо в сторону шеренги инструкторов и моих товарищей. Их напряженно вытянувшиеся лица промчались мимо меня, и я почувствовал, что тряска прекратилась. Значит, я взлетел! Земля ускользала подо мной. Наверное, я действительно выбрал нужный момент для маневра. Но тут заборы и постройки закружились в удивительном танце, и я поспешил выправить самолет, вернув его в нормальное положение. Мир подо мной вновь приобрел знакомые очертания. Очень скоро я вновь забеспокоился. В каком направлении находится аэродром? Мне показалось, что заблудиться в небе гораздо неприятнее, чем на твердой земле. В поисках правильного курса я осторожно развернулся, потом еще раз. И тут я почувствовал, что мой желудок сдвинулся с нормального места, и все, что я сегодня съел, настоятельно просится обратно. Вот с такими ощущениями я и полетел на скорости 70 км/ч прямо к дому, мотор работал на пределе.
Каким-то образом надо было садиться. Очевидно, мой добрый ангел не выпускал меня из виду. Я уже и не надеялся целым и невредимым добраться до земли, но мне все же удалось рассчитать нужное расстояние, вовремя направить нос моего «Фармана» вниз, затем немного вверх, и после нескольких прыжков (точно как скворчиный детеныш из моего детства) я твердо встал двумя колесами на землю. Дальнейшее показалось мне детской игрой. Я гордо катился по летному полю и остановил машину возле группы офицеров и обучающихся. И хотя никто не произносил громких слов похвалы, я наслаждался их удивлением и молчаливым одобрением. Так состоялось мое воздушное крещение. Меня охватил азарт. Теперь для меня не существовало ничего, кроме желания вновь и вновь подниматься в небо. Теперь я принадлежал к касте авиаторов!
Конечно же, я не переставал посещать лекции и практические занятия, несмотря на то, что уже был младшим унтер-офицером и имел награду. Теорию нам преподавал инженер, который иногда брал нас на аэродром под Петроградом. Вечером мы делились впечатлениями от этих поездок с теми, кто оставался в казарме.
В свободное время мы организовывали увлекательные шахматные турниры. Я подружился с одним из своих партнеров по шахматам, и эта дружба продолжается до сих пор. Когда я приезжаю в Лондон, где он теперь живет, мы регулярно достаем шахматную доску, чтобы провести долгие беседы и вспомнить прошлое.
Помимо полетов, мы также учились вождению автомобиля. Нередко меня просили доставить генерала в клуб, а затем, порой глубокой ночью, привезти его обратно домой. Это считалось большой честью, и я с удовольствием выполнял свою миссию. Кроме того, это дало мне возможность ближе познакомиться с генералом В., секретарем Великого князя, который когда-то помог мне попасть в авиацию. Я хотел лично поблагодарить его, но тогда мне не представилась такая возможность.

Свидетельство об окончании Иваном Смирновым Родниковского двухклассного училища при фабрике Товарищества мануфактур А. Красильщиковой с сыновьями. 1909 г.


Мать Ивана Смирнова. На обороте надпись: «На память дорогим деткам от матери. Смирнова»
Много лет спустя, после войны, я встретил его в Париже. Он потерял все во время революции и работал сотрудником какого-то архива. Он жил в районе Монпарнаса и пригласил меня отобедать. Там же находилась моя милая сестра милосердия, с которой я когда-то познакомился в Петрограде. Она владела скромным ателье, которое приносило достаточно средств к существованию. Генерал по-прежнему производил впечатление русского аристократа старой закалки, несмотря на то, что утрата родины разбила ему сердце. Я чувствовал себя неловко и попытался поблагодарить его за все, что он когда-то сделал для меня. Он любезно выслушал мои слова, в глазах его стояли слезы.
Те первые месяцы полетов были самыми счастливыми в моей жизни, хотя офицеры зачастую обращались с нами, нижними чинами, неуважительно. Они считали нас людьми второго сорта и заставляли просить разрешение зайти в ресторан или кафе, где начальники пили аперитив или ужинали. Иногда они вели себя грубо и отказывали нам в таких просьбах. Со мной тоже случалось такое, и этот опыт был крайне неприятным.
Я испытал огромное облегчение, когда меня перевели в Московскую летную школу, где моей заботе поручили три десятка солдат. Там царила такая же жесткая дисциплина, как и в Петрограде. Когда я прибыл в штаб, меня сразу предупредили, чтобы я не появлялся ни в одном кафе Москвы и также удерживал от этого своих подчиненных.
Ученикам на первых порах поручали неприятные задания – уборку ангаров, очистку снега и прочее. Периодический технический осмотр аппаратов проводился самым серьезным образом, иначе сразу же что-нибудь начинало барахлить. Тяжелее всего обучающиеся переносили запрет на курение, за нарушение которого строго наказывали. Например, нарушителю приходилось стоять с полной выкладкой на часах у офицерского клуба под насмешками наших командиров.
В те времена в русской армии царили непростые отношения. Я могу привести характерный пример: на утреннем параде дежурный офицер ударил солдата по щеке за незначительную провинность – его ремень был неправильно застегнут и свисал ниже положенного. Этот солдат оказался сыном высокопоставленного начальника, и в результате инцидента офицера перевели в другую часть. Хотя отношения между командирами и солдатами были неофициальными, на такие случаи нередко закрывали глаза.
Вскоре после того памятного сольного полета меня прикомандировали к группе наблюдателей. Самолеты стремительно развивались, скорость увеличивалась с невероятной скоростью – 60, 70, а затем и 80 километров в час!
Наибольшее распространение получили самолеты «Фарман», которые были оборудованы как боевые машины. Они были оснащены множеством приборов, включая измеритель давления масла и высотомер. Двигатели мощностью 80 лошадиных сил устанавливались позади кабины – это было последним новшеством. На самолетах-разведчиках использовались тянущие моторы мощностью 60 л. с., которые размещались в передней части фюзеляжа. Летчики могли выполнять некоторые фигуры высшего пилотажа, но боковое скольжение, вращение и петли были еще небезопасными.
На занятиях, конечно, случались и аварии, но, к счастью, меня они обошли стороной. Я помню, как один обучающийся прекрасно взлетел и совершил великолепный полет, но при посадке врезался в землю. Нос его самолета буквально ввинтился в поверхность летного поля, и он получил серьезный выговор. Уничтожение самолета считалось серьезным проступком, так как их не хватало.
Чтобы ограничить риск для курсантов, применялись многочисленные изобретения. Я помню «автоматический мотор», который останавливался, если курсант забывал выключить его вовремя. Однако вскоре мы стали свидетелями того, как самолет с автоматической остановкой двигателя совершил посадку с работающим мотором. Чудо техники не сработало, и самолет вертикально, хвостом вверх, воткнулся в землю. Когда мы подбежали, винт все еще вращался! Это был конец «автоматическому мотору»!
Все нововведения в этой области часто называли «автоматическими». Например, был изобретен аппарат с «автоматическим контактом», который позволял ездить по летному полю, но исключал возможность взлета. Этот тренажер был встречен с огромным энтузиазмом. Ученики могли управлять такой машиной, не поднимаясь в воздух!
Однажды, когда очередной ученик отправился отрабатывать на нем свои навыки, аппарат неожиданно взмыл вверх. Это был последний полет тренажера! Можно считать чудом, что при последовавшей аварийной посадке начинающий авиатор остался невредим и даже умудрился не порвать свою одежду.
Страх перед подобными «автоматическими» машинами сохранился до сих пор. Даже сегодня каждое новое изобретение воспринимается с долей скепсиса.
Возможно, то, что мне удалось избежать аварий во время учебных полетов, сыграло свою роль. Хотя к тому времени мой общий налет составлял всего лишь 15 часов, мне доверили разведывательный самолет!
По существовавшим в то время правилам, новые самолеты, приобретенные во Франции и Англии, сначала испытывались заводскими пилотами-приемщиками, которых набирали из числа летчиков-любителей. Удивительно, но эти ребята имели весьма скромный опыт в военном деле. Тем не менее их полное бесстрашие удивляло нас. Казалось, у них совсем не было нервов, потому что они поднимались в небо на чем угодно. Обычно, покружив где-то в вышине, эти мастера садились совершенно удивительным способом и страшно ругались, вылезая из кресла пилота. Однако даже когда испытатели утверждали, что машины опасны для жизни, их все равно допускали к полетам.
Например, мы получили пару тяжелых аппаратов системы «Вуазен» с барографами для определения высоты. Эти приборы необходимо было проверить на высоте 2000 метров. Оказалось, что барограф не работает. Тогда испытатель, который осуществлял тестирование, несколько раз «падал» до 500 метров и снова поднимался на нужную высоту, пока прибор не начал регистрировать правильные показания. Только тогда самолеты признали исправными и полностью отвечающими предъявляемым требованиям.