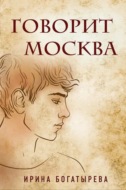Kitobni o'qish: «Жити и нежити»

Здравствуй, брат!
Раз ты нашёл эту флешку, значит, я не ошиблась в расчётах, и ты появился в нужном месте в нужное время. Поздравляю! С радостью обняла бы тебя, жаль, что сделать этого мне не придётся.
Надеюсь, у тебя всё хорошо. Сама я в порядке. Не скрою, первое время мне было тяжело. Да чего там: мне было просто никак. Всё по-новому и очень странно. И еда, и питьё, и другие ощущения. А главное, появился страх. Страх смерти, ты можешь себе такое представить? Знаю, что нет. А я вот теперь могу.
Но ты не волнуйся: сейчас у меня всё наладилось. У остальных тоже. Как поживает Ём, ты без труда узнаешь, погуглив его имя. О нём пишут сейчас больше, чем он сам о себе знает. У Джуды тоже всё хорошо. Первое время на неё было страшно смотреть. Потом отошла. Сейчас она уже не танцует, но часто читает лекции студентам. Недавно вернулась из Индии. О тебе вспоминает с теплом. Уверяю: это самая счастливая женщина из всех, кого я знаю. Она полна таким внутренним светом, что рядом с ней приятно находиться.
Брат, я долго думала, показывать ли тебе текст, который ты найдёшь во втором файле, и всё же решилась. Откровенно говоря, я писала его не для тебя. Я не сомневаюсь, что ты помнишь всё, что с нами случилось, и даже лучше, чем я. Но меня долго мучило чувство вины перед тобой. Будто я нечестно выиграла в лотерею, влезла в свою вечность, зацепившись за кончик чужого плаща. Да, законы мироздания неумолимы, и я до сих пор не понимаю, почему они обошли меня стороной. Меня, а не тебя, мой царственный брат.
Я долго мучилась этим, пока Ём не сказал: хочешь переболеть, напиши. Он человек, он знает. И я решилась. И, поверишь ли, помогло. Надеюсь, тебе тоже будет если не полезно, то хотя бы интересно это прочесть.
И последнее. Мой образ жизни не исключает, что я доживу до момента, когда ты снова у нас появишься. И я понимаю, конечно, что тебе не составит труда меня найти. Так вот, заклинаю тебя Лесом: не делай этого! Будь милостив ко мне так же, как и к себе. Закон времени ещё более неумолим, чем закон мироздания. И уж он-то меня не обойдёт. А я хочу, чтобы ты меня помнил молодой. Всегда такой же, как ты, князь.
Поэтому если захочешь увидеть меня, просто взгляни в зеркало.
Доброй дороги, брат!
Люблю и скучаю.
Твоя Я.
P. S. Да, и последнее. Конечно, ты прав: не знающий рождения не знает и смерти. И всё же поверь мне на слово: не знающий смерти не способен и жизнь понять.
Глава 1
Голод
1
Осиновый лесок был влажен, пуст и на просвет прозрачен. Я лежала в корнях, притаившись, не сводя глаз с поляны под скатом оврага. Охотничий азарт тянул нервы, было колко и весело. Если бы у меня был хвост, он наверняка бы сейчас подрагивал. Но у меня нет хвоста. К сожалению. Или всё-таки к счастью? Не знаю, я пока не решила. Но всё равно дрожать нельзя, можно только ждать, обмерев, и облизывать губы от нетерпения.
Апрель выдался тёплым. Снег уже сошёл, но земля ещё не прогрелась. Лежать было зябко и сыро, но я не обращала внимания. Погода тоже выдалась не очень, солнце не показывалось, и поэтому я не совсем понимала, что будут делать собравшиеся здесь люди. Впрочем, какая мне разница: я точно знала, что буду делать сама.
Они собрались в лощинке, защищённой от ветра, и этим существенно облегчили мою задачу. Не надо было лезть на дерево, выискивая удобную точку. Я просто притаилась на склоне овражка, за кустами, в мягкой жухлой листве. Отсюда мне было прекрасно видно всё: и людей, и окружающий лесок на несколько метров вокруг, и даже тропу, ведущую к станции, на случай экстренного отступления. Железка проходила в километре отсюда, время от времени лесок наполнялся гулом электрички, и тем более полная, будто придавленная, наступала потом тишина. Аж уши закладывало. Не лучшее место для медитации, доложу я вам, но этим людям много и не надо. Они не из тех, кто устраивает ретриты в сверхсекретных местах – в горах, к примеру, куда не так просто добраться. Нет, эти попроще, а мне и надо сейчас чего попроще. Правда, они и послабей: истощённые голодом и зимой, изнурённые своим представлением о здоровой пище тётеньки с фанатичными глазами, мужики с лицами язвенников. Заговори с такими на любую тему, они сведут всё к диетам, правильному питанию и к тому, чем травит их современный мир. Мне бы ваши проблемы, ребята.
Бодрее и здоровее во всех смыслах выглядели руководитель и его помощница. Оно и понятно: надо же демонстрировать позитивные последствия заблуждений. Они что-то вещали, остальные безропотно сидели на гимнастических ковриках, слушали. Иногда до меня долетали обрывки лекции, но я не пыталась вникать: суть сыроедения с последующим переходом к питанию солнечной радиацией меня не интересовала. Я могла бы сама много рассказать про энергетическую экономию, про годы без еды, в пещере, в норе, пахнущей грибами и прелью, но зачем? Как любую нежить, меня волновало только собственное выживание, и ради этого приходилось ждать и терпеть трепотню солнцеедов.
Вот только солнце сегодня, похоже, взяло отгул. Люди замерзали, я это точно знала: у меня похолодел кончик носа. Значит, произошла сонастройка, ведь мне самой температура окружающей среды нипочём.
«Теперь попробуем все вместе…» – долетело до меня, и люди на ковриках зашевелились, подобрались, выпрямили спины. Я тоже вся подтянулась до кончика несуществующего хвоста. Вот оно, скоро начнётся. Губы пересохли, но теперь я боялась их облизнуть. Сейчас они создадут общее поле, или как у них это называется, и направят свою энергию в одно русло, и тогда не зевай: надо вовремя хватать и тащить.
Спросите, как мне не стыдно? Стыдно. Всегда совестно обирать сирых и убогих, но что делать – других нет. В одном могу заверить: я умею себя ограничивать и не брать лишнего. Разве что совсем не питаться пока не умею. А этим психам, может, даже на пользу пойдёт: хлопнется кто-нибудь в обморок – глядишь, мозгов наберётся.
Вот они закрыли глаза, что-то бормоча и нашёптывая. Лощинка наполнилась гулом, будто рой пчёл налетел. Я напружинилась, как перед прыжком, и для лучшей концентрации тоже прикрыла глаза. Как тут…
…раздался выстрел!
Я не сразу поняла, что это. Сперва показалось, это звук от железки. Но нет. Люди озирались, крутили головами. Вдруг грохнуло опять, и они завизжали, повскакивали и, оставляя вещи, полезли по склону оврага. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть, что там творится, но тут листья передо мной взвихрились, лицо обдало землёй, и прогремело снова. Я инстинктивно отпрянула, выскочила из укрытия и прыгнула в сторону. Мимо бежали люди. На меня не смотрели. Лес наполнился криками, шуршала взрываемая ногами листва. Сомнений быть не могло: по ним стреляли, по этим мирным травоядным кто-то посмел стрелять.
Заряд выбил кусок дерева у меня над головой. Ворох коры и древесных волокон запорошил волосы. Что такое? Или в меня?! Я пригнулась и припустила вперёд неловкими зигзагами от одного большого ствола к другому. В глазах замелькали осинки. Кругом паника. Бред, сущий бред.
Загудело, заскрежетало, в какой-то сотне метров пронеслась электричка, и я заставила себя остановиться и унять идиотский страх. Руки тряслись, ноги плохо держали, и, что самое дурацкое, дрожала челюсть, клацали зубы. Я-то с чего так перепугалась? Или это всё та же сонастройка? А может, действительно стреляли в меня?..
Так. Спокойно. Я не человек. Я – это я: нежить, тень, след на песке. Стояла и повторяла про себя, чтобы успокоиться. Мимо в сторону станции продолжали бежать насмерть перепуганные люди. Но я не обращала на них внимания. Было только обидно, что они ушли от меня, но что делать: кто бы мог подумать, что в одном месте охотников будет двое. И кто этот второй, откуда ему взяться? И главное, почему он стрелял в меня? Если в меня…
Наверное, стоило вернуться. Найти место, откуда он стрелял, ведь там наверняка осталось что-то – гильза, нитка с одежды, хоть что-нибудь, что мне обо всём расскажет. Но нет. Я подавила тошнотное чувство страха, накатившее от одной мысли об этом, и пошагала в сторону станции. Потом, потом. Кто бы это ни был, разберусь с ним потом. А сейчас просто хотелось убраться отсюда. Как можно скорее.
2
А какая весна стояла в тот год в Москве! Какая ярая, солнечная, пьяная стояла весна! Как звенела она в ушах, как кружилась от воздуха голова, как несло нас по бульварам – нездешних, пьяных, только очнувшихся, ослепших после долгой спячки. Как душило восторгом и звало куда-то, манило, и нестерпимо хотелось от этой весны всего: лиц новых, людей новых, жизни. Жизни хотелось нам!
Мы появились неделю назад. Мотались по городу, мерили его шагами до изнеможения, заглядывали в лица прохожим. Мы прочесть хотели их; глазами этими, лицами, новыми, свежими хотели упиться, захлебнуться – и не могли, никак не могли. Мы были ненасытны и жадны, как изголодавшиеся юные звери; мы у́стали не знали и хотели всего. Всего, всего мы хотели.
Уходившись, утомившись, садились в кафе за широким окном или на улице, на железных, промозглых стульях открытых веранд, ещё пустых в это время, сидели и молчали, смотрели, боясь сморгнуть, боясь отвести от мира глаза, чтобы он не пропал. Мы впитывали его и пьянели, пьянели с каждой минутой.
– Как же хороша жизнь, сестрёнка, – говорил Яр. – Нет, ты только посмотри: как же она хороша!
Я соглашалась с ним, но он меня не слушал, ослепительно улыбался подошедшей официантке, так что бедная девушка не знала, куда от смущения деть глаза. Отпустив её и проводив таким взглядом, какой мог бы оставить на коже ожог, подносил к лицу чашку крепкого кофе величиной с напёрсток, закатывал глаза и вдыхал аромат:
– Великолепно. Просто великолепно!
Мы поселились на чердаке старинного купеческого дома. Сейчас там детская школа искусств. Это на Чистых прудах. Из метро выйти к Мясницкой, свернуть в Гусятников переулок, пройти метров двести, потом налево – и будет он: небольшой сквер, тихий, тенистый. При входе памятник гимназисту. Я не сразу узнала его, но Яр подсказал: Вовочка в накинутой на плечи шинельке, ещё не вождь, ещё не друг пролетариата – простой уездный мальчик.
Наша школа возвышается в глубине сквера за́мком. У неё две круглые башни с витражными окнами. Наша школа – дворец развития художественного вкуса, слуха и творческих навыков.
Это с одной стороны.
А с другой, со двора – ветхая дверь на узкую лестницу, забитую пылью, бутылочным стеклом, мусором и палыми листьями. Больше ничего – одна эта лестница вдоль всех этажей и огромный, над всей школой чердак с башнями старых печных труб, просвеченный слуховыми окошками, будто простреленный. Юлик говорил, что ради печей лесенка эта и делалась – по ней поднимались печники и трубочисты, проверяли тягу и чистили трубы. Нынче печи не топят, но раз Юлик что-то говорит, ему можно верить, ведь это его обязанность – всё на свете знать. И чердак нашёл он, он умеет чуять такие места, как свинья – трюфели.
– Такое место, такое место, светлейший! – пел он, изнемогая от своего открытия, пока вёл нас к школе. – Славное, славное, князь! – и юлил, и крутился. Яр хмурил красивый белый лоб и на Юлика не глядел. Цезарь тяжёлой походкой ступал сзади, шаги его – как звуки судьбы.
На чердаке – кавардак: ломаные парты, доски, коробки. Старый диван под окном, а напротив – разбитый, некогда белый рояль. Как только затащили его сюда?
– Нравится? Нравится, князь? – лебезил Юлик, теряясь под тяжёлым взглядом Яра.
Брат молчал. Мы ждали. Он неторопливо обошёл чердак, переступая через коробки и мотки ржавой проволоки, стараясь не поднимать пыли. Остановился в луче света возле рояля. Мы не сводили с него глаз.
– Здесь, да? – спросил задумчиво. Юлик кивнул. Даже он притих, такой далёкий был у брата взгляд. – Ну что ж. Здесь – значит, здесь. Не всё ли равно.
И взял аккорд красивыми тонкими пальцами. Светлейший. Князь. Снова тот, кто он есть.
Мы выдохнули.
Но как бы ни пьянила, ни кружила нас жизнь, и Москва, и весна, слепящая солнцем, всё равно приходится помнить, кто мы такие и для чего здесь. И если уж Юлик нашёл место, если центр сближения вычислен, это значит – игра началась, и ни тебе, ни мне не под силу остановить её, брат. В конце концов, кто мы такие? Тень от тени. Нежить. След на песке.
Однако найти место – это только начало. Теперь надо ждать. Ждать людей, ради которых нас вытянуло на этот раз. Это может продлиться неизвестно сколько. Но Яр умеет ждать, и люди – обычные люди, ненаши – интересны ему как объект.
– Надо понять это время, – говорит он, стоя под слуховым окном на чердаке. Цезарю удалось его открыть. С крыши текут запахи весны и гниения. Яр принюхивается и что-то в них разбирает. – Какие сейчас люди? Чего они хотят? Юлик? – оборачивается.
– Счастья, светлейший. – Тот равнодушно пожимает плечами. – Люди во все времена хотят только счастья.
– А что им для этого нужно?
– Счастья, светлейший. Людям для счастья никогда ничего больше не нужно.
– Спорно, спорно, – качает Яр головой. – Этого мало. Так было всегда, а что сегодня?
– Ищем, светлейший. Ищем. Обязательно найдём. – Юлик достаёт из кармана брюк старый лорнет на длинной ручке, в один взмах раскрывает и подносит к глазам. – Итак, – объявляет с театральной интонацией, – запросы стандартные: как найти работу… как подложить свинью… как найти мужа… – Вытаскивает планшет и тычет в него пальцем. Мы с Яром в недоумении. – Шаманизм… Тайные учения. Места силы… Целебные вибрации, горловое пение… О, вот что-то знакомое: дао, хлопок одной ладонью. Время хлопка одной ладонью! Не пойдёт? – поднимает на Яра глаза и сталкивается с его металлическим взглядом.
– Ты где это взял? – спрашивает брат.
– А… что? Это?
– Где взял, я спрашиваю? – Голос Яра не предвещает хорошего. Вообще-то он не склонен к насилию. Просто не любит, когда Юлик от рук отбивается.
– Так это… Материализация… – Юлик заметно трусит.
– Я тебе сейчас дематериализацию покажу. – Яр шагает к нему. Юлик вжимает голову в плечи. – Где взял, говорю?!
– Да спёр он его, светлейший, – безразличным тоном отзывается Цезарь. Складным ножом он чистит себе ногти, развалившись на коробках со старыми нотами. – В ларьке у метро. С витрины стянул. Не стоит дёргаться. Поиграет – и выбросит: зарядника всё равно нет.
Но Яра уже не остановить. Он хватает Юлика за шкирку и швыряет в сторону. Тот старается удержаться за рояль, несчастный инструмент стонет.
– Я тебе раз и навсегда говорю: чтобы никаких выходок, – обрушился брат. – Никаких спёртых ноутбуков, телефонов, случайных кредитов – ничего! Мы не оставляем следов! Понятно?
Он нависает над ним всем своим гневом, бедный Юлик не знает, куда деть глаза. Но Яр остывает, отходит – рояль охнул, когда он снял с него руку, и заплакал, когда Юлик заёрзал на нем.
– Тебя это, кстати, тоже касается, – кидает брат Цезарю, проходя мимо.
– Как можно, светлейший. Без вашего приказа ни один волос…
– Тихо! – обрываю я, прислушиваясь к звукам за дверью.
И все замирают.
Слушают.
Не дышат.
Ни единого движения не доносится с лестницы, но я знаю: там кто-то есть. Притаился, тоже прислушивается. Ждёт.
Неслышно – тень от тени – я проскользнула к выходу, замерла на миг, открыла дверь и шагнула на лестничную клетку.
И нос к носу столкнулась с мальчиком лет пятнадцати. Сзади мялся ещё один, маленький, лет десяти.
Они явно не ожидали меня увидеть и удивились моему появлению не меньше, чем я их.
– Здрасьте, – первым нашёлся старший мальчишка и улыбнулся. Лицо большое, крестьянское, и улыбка получилась открытая, какая-то разудалая, честная.
У второго улыбка вышла пожиже. Он трусил.
– Здравствуйте. А вы что тут делаете? – спросила я как можно более строго. Вспомнила, что выгляжу-то взрослой. Для них – вполне взрослой.
– Ничего. Мы так… Тут не было никогда никого. – Большой говорил, а маленький всё смотрел. Не на меня, а на дверь за моей спиной. – Мы отсюда, из школы. И… ну, эта…
– Раньше часто ходили, – ляпнул маленький, и старший его пихнул.
– То есть, бывало, что на чердак поднимались. Он же того… ну, эта. Пустой.
– Пустой был. Да. Теперь мы… – Я тоже осеклась. Говорить, что мы здесь поселились, ни в коем случае нельзя. Мы стараемся избегать людей. Не хватало ещё, чтобы про нас узнали.
Я вдруг почуяла, что дверь за моей спиной приоткрывается. Мальчики неотрывно за ней следили. И тут я поняла, что позади меня кто-то есть. Кто-то маленький и вёрткий проник, незаметно проскользнул у меня под самой рукой. Я резко обернулась, и мальчишки закричали: «Ира, не надо!» – но пигалица, чуть достающая мне до пояса, расчухав, что её рассекретили, резко распахнула дверь.
Комната, которая открылась нам, была небольшой, но уютной. Свет падал из окна в потолке. Он освещал письменный стол тёмного дуба, обитый чёрной кожей диван и стеклянный столик возле него. Стены из гипсокартона сияли свежей бежевой краской. Двое рабочих-таджиков в синих, заляпанных спецовках – один тощий и высокий, другой пониже и покрепче, – приставляли к стене белый рояль фирмы Steinway & Sons, и солнце играло на его крышке. Яр в сером костюме в строгую тонкую полоску, элегантный, как лорд за завтраком, оторвал глаза от планшета и взглянул на нас.
Краем сознания я отметила, что планшет тот самый, Юликов.
– Ярослава, ещё рано пускать посетителей, – сказал брат строго.
– Да, Ярослав Всеволодович, – я послушно кивнула, стараясь закрыть дверь, но пигалица, которую я и разглядеть-то толком ещё не сумела, снова юркнула у меня под рукой и уже была на середине комнаты.
– Ух ты! – выдохнула она, не скрывая восторга. – Как тут стало! А было так прямо – ух! Тим! – обернулась она. – Смотри! Да не бойтесь! Смотрите, какой рояль!
Мальчики вышли из-за моей спины и оглядывались с вежливым любопытством, больше стреляя глазами на чудесный инструмент. Яр наблюдал за ними поверх планшета. Выглядели они, надо сказать, занятно: были одеты не по моде, точнее, по моде эдак двухсотлетней давности – рубахи и порты на мальчиках, сарафан, белая сорочка на девочке. Разве что лаптей не хватает, а так – Москва образца 1816 года. И простые их лица, вихрастые чубы и русая косица у девочки очень естественно сочетались с этой одеждой.
– И правда хорошо, – вежливо сказал старший мальчик. – Извините, что помешали. Мы не знали, что чердак сдали. Мы думали, тут как всегда…
– Ой, а попробовать можно? – прыгнула Ира к роялю.
– Ира! – одёрнул её маленький мальчик. Но было видно, что ему самому очень хочется поиграть. – Спрашивать надо сначала, – смутившись, добавил он.
– Так я и спросила, у кого спрашивать? – крутилась Ира. – У вас? – заглядывала она в лица рабочим.
– Дыректора, – натужно сказал таджик, тот, что покрепче.
– У вас? – обернулась Ира к Яру.
– Ещё, наверное, нельзя. Точнее, не стоит. Его же только что привезли, его ещё настраивать надо, – рассудительно говорил в это время маленький мальчик, глядя на рояль, как на добрую красивую лошадку, которую и хочется погладить, и боязно. – У нас, когда привезли, он ещё неделю стонал, – добавил, найдя в себе силы отвернуться от рояля и обернуться ко мне. – Как человек. – И скорчил физиономию, изображая, как страдал привезённый тогда инструмент. Мальчик был в очках, одна линза залеплена пластырем, и выглядело это очень комично.
– Вы музыкой занимаетесь? – спросила я.
– Да, мы отсюда, из школы искусств, – ответил старший и позвал: – Ира, ну всё, пошли. Извините нас, – ко мне.
– А у вас тут что будет? Какие занятия? – крутилась Ира посреди комнаты, пытаясь заглянуть за планшет Яра.
– А вы почему так одеты? – решилась я на вопрос.
– Мы из народного ансамбля, – пояснил младший мальчишка. – Бориса Ефимовича Серафимова, не знаете?
– Нет, кто это?
– Дыректора, – выдал второй таджик, тощий и высокий. – Дыректора школа.
– Ира, идём!
– Вы сертификаты выдавать будете? – болтала она, склоняясь почти к самому столу, стараясь поймать взгляд Яра.
– Ира, какие ещё сертификаты? Идём! – Тимофей схватил её за руку. Она вывернулась и засмеялась:
– Какие, какие! На счастливую жизнь! – крикнула и прыснула вон с чердака, топоча по лестнице быстрыми ножками.
– Ох, извините, – сказал Тимофей, раскланиваясь то со мной, то с Яром. – В смысле нас. Ну, в смысле…
И вслед за меньшим тоже вышел на лестницу, откуда уже несся звонкий Ирин голос:
– Чур я первая Борису Ефимычу расскажу!
– Это кто? – спрашивает Яр, опуская планшет и поднимая глаза.
– Дыректора, – выдаёт Юлик, ещё не успев выйти из роли. – Дыректора шко…
Но обрывает себя, заметив, какой взгляд у брата.
–Это кто, я спрашиваю? – повторяет Яр глухо.
– Так ведь дети, светлейший. От детей – от них же никуда не деться…
– Вон, – говорит Яр зловеще. – Вон отсюда. Оба. Пока не сделаете. Чего-нибудь. Полезного. Пока не найдёте. Мне. Человека. Моего. Человека. Иначе распылю. Обоих. Вон!
– Князь, князь, ну мы-то, мы-то при чём, она сама, они теперь сами, они такие, князь… – лепечет Юлик, но Цезарь дёргает его за рукав, и тот замолкает. Брат не злится. Пока что. Но, если его довести, может разозлиться по-настоящему.
– Слушаюсь, княже. – Цезарь коротко кланяется и исчезает.
– Не стоит беспокоиться, светлейший, всё в лучшем, в наилучшем… – бормочет Юлик.
– Вон! – выдыхает Яр. Юлий щёлкает каблуками и исчезает в поклоне. Брат откидывается на спинку дивана и щёлкает языком: – Распустились.
Чердак становится прежним. Хлопья штукатурки и пыли. Свет сочится сквозь немытое годами стекло. Слышно, как курлычут голуби, постукивая коготками по нагретому скату крыши. На повороте звенит трамвай.
– Дыректора, – фыркает Яр и включает планшет. – Иди сюда, – зовёт меня.
Я подхожу, тихонько опускаюсь рядом с ним на диван, подо мною не скрипнет пружина. Вместе глядим в монитор. Сперва ничего не видно, потом проступает лестница, по которой вся троица вскачь несётся наверх.
– Это тут, за стеной, – говорит Яр.
Они спешили на третий этаж. По красивой лестнице старинного дома со стрельчатыми окнами с витражами. Неслись наверх, где большая комната до потолка увешана инструментами. Балалайки, колёсные лиры, гусли, домры, огромные трубы пастушьих рожков, окарины, выводки дудочек-кугиклов и обычных свирелей – они были всюду, как в музее, висели на стенах, стояли на полках, ими были заняты столы, подоконники. А посреди комнаты стояли несколько мальчиков в русских косоворотках и портках и играли на жалейках. Музыка получалась хриплая, ещё неумелая, но весёлая: они то и дело обрывали себя и смеялись. Высокий крепкий мужчина, которого мы видим со спины, в клетчатой крестьянской рубахе, отчитывал их, сердясь, но по-настоящему не злился и смеялся вместе с ними.
– Борис Ефимыч! – ворвалась в комнату Ира. – Борис Ефимыч, там такое!
– Ага. – Мужчина обернулся, посмотрел на неё строго, но в весёлых глазах за стёклами очков искрилась хитринка. – Лисичка-сестричка. А занятие уже сколько идёт? А? Тимофей?
– Борис Ефимыч, – переводя дыхание, начал старший. – Мы не специально.
– Я не сомневаюсь, что не нарочно. – Мальчишки за его спиной захихикали. Тимофей исподтишка показал им кулак. Маленький мальчик успел прошмыгнуть и встать вместе со всеми, вытащил из-за пояса жалейку.
– Борис Ефимыч, там такое! Вы знать должны! – снова встряла Ира.
– Не говори! – попытался одёрнуть её Тимофей.
– Отчего же? Что случилось? – обернулся к ней директор.
– Мы с чердака! Мы только что на чердаке были!
Все оживились и зашумели. На чердак лазали всегда, хотя это строго запрещалось. И всё же это считалось чем-то вроде школьной доблести, хотя признаться старшим открыто не посмели бы никогда. Тимофей театрально хлопнул себя по лбу.
– Мозги отшибёшь. – Борис Ефимыч сгрёб его, зажав голову под мышкой. – Последние, что остались. – Затем, не глядя на выкручивающегося Тимофея, обратился к Ире. – Ага, ну давай, с этого такта подробней. Что вы там делали? Курили?
– Борис Ефимыч! – возмущённо взвыл из-под мышки Тим. Директор не обращал на него внимания.
– Что вы, Борис Ефимыч! Мы же не!.. Мы же совсем! – зашумели и все остальные. Ире в это время строили самые выразительные физиономии, обещая страшную кару, но она только показала язык и продолжила:
– Борис Ефимыч, там уже беспорядка нету! И нот старых нет! И проволоки! И рояля!
– Правда? – удивился Борис Ефимыч. Тимофей перестал крутиться и тихонько выл. – Куда же он делся?
– Там другой рояль! Новый! Вот такой! – не выдержал маленький, который ходил с ними.
– Федька! – вскрикнула Ира и надулась, отвернулась от него, сложив руки на груди: у неё украли такую новость!
– Рояль? – удивился директор.
– И ещё там люди! – выкрикнул Федя. Начав рассказывать, он уже не мог остановиться.
– Кто? Вы их видели?
– Как вас, Борис Ефимыч, – откликнулся Тимофей. Все в комнате засмеялись.
– Ну уж вряд ли как меня, – справедливо усомнился Борис Ефимыч. Но парня отпустил. – Странно, странно. А что ещё вы там видели?
– Директора, – очнулась Ира. – Красивый такой, в сером костюме.
– И рабочих ещё. Двоих, – добавил Тимофей. – Они ремонт недавно сделали.
– И рояль! Борис Ефимыч, вы бы видели, какой там рояль! – не унимался Федя.
– У них там фирма, они сертификаты будут выдавать всем, на счастье! – сказала Ира и расплылась в улыбке.
– Хм, вот как. Ясно, ясно. – Борис Ефимыч потеребил седеющую бороду. Пальцы у него были большие и плоские – пальцы работяги, привыкшего работать с деревом, а не музыканта. Он и сделал своими руками все эти инструменты. Подумав, он прикинул что-то, потом вскинул голову к часам, висящим под потолком, и скомандовал: – Ладно, это мы выясним. Что сидим? Живо за инструменты! И так половина занятия прошла. Кто к концерту готовиться будет?
Яр отключает монитор.
– На двери ставим защиту, – говорит, подумав.
– Брат, он сюда не пойдёт. Может, один раз поднимется, увидит всё в прежнем виде и больше не придёт.
– А дети?
Я молчу. Про детей никогда ничего нельзя сказать наверняка.
– Больше чтобы ни ногой. Из живых – никого. Мы не оставляем следов.
– Да, брат. Я помню.
Он вздыхает и устало прикрывает глаза. Я чувствую его досаду как свою. Но всё же гораздо сильнее – голод.
Поэтому пока он не видит, тихонько подхожу к двери и выскальзываю с чердака. Я спешу на охоту. На солнцеедов.
3
Это всегда так начинается: вдруг непреодолимо потянет к людям. Невыносимо, страстно. И не из-за голода. Чуешь всем естеством: голод тут ни при чём. Так потянет, чтобы не просто выйти на свет, пройтись в сумерках по окраине какого-нибудь селенья, чтобы собаки за заборами сперва обмерли от страха, а после, когда отойдёшь за километр, тоскливо завыли в темноту; и не просто вылезти на обочину, посмотреть вслед проезжающему автомобилю, сесть в кабину к скучающему дальнобойщику, проехаться до съезда с главной, состричь с него, сколько получится, – и опять к себе, в Лес…
Нет.
Начинает тянуть по-настоящему в город, в толпу, и такое беспокойство охватит, такой тоской защемит душу – или что там у нас вместо неё, что начнёшь чего-то ждать, надеяться, даже верить…
Это значит началось. Закрутилось – и тебя понесло. Уже выносит – к ним, к смертным, и остановиться невозможно. Яр называл этоочнуться. Очень хорошее слово, если вдуматься: вот ты будто в анабиозе, и вдруг случается то, что заставляет тебя вздрогнуть. Сбросить мох. Откопаться из-под жухлой листвы. Покинуть нору, болото, холодную сырую расселину, подвал нежилого дома, склеп, трухлявое дупло в вековом дереве. Разлепляя глаза, щурясь на солнечный свет, с каждым шагом всё более походя на человека, мы идём, послушные древнему зову: искать, искать, искать. Это значит, что кто-то близок к порогу. Это значит, что кто-то получает свой единственный шанс разомкнуть ограниченность. И ты получаешь его вместе с ним. И вот ты почти человек, в облике и подобии человечьем – мыслишь, дышишь, чтобы найти его, своего человека. А когда это происходит, становишься житью и следуешь за ним, узнаешь его, а потом судишь… Но главное – совсем как люди – цепляешься за эту жизнь. И как же страшно бывает представить, что придётся снова её отпустить…
Да, Яр, как всегда, прав:очнуться – очень точное слово. Он говорил, что как люди отличаются степенью осознанности, так и мы отличаемся разной способностью очнуться. И частотой этого процесса. Он утверждает, что мы с ним приходим в себя довольно часто, раз в пятьдесят – семьдесят лет. Яр научился рассчитывать примерную дату и место. Вывел сложную формулу. И стал готовить небольшие схроны, класть туда что-нибудь ценное на первое время после пробуждения. Вот только мы поселились на чердаке – сразу приметил удобное дупло в одном из старых клёнов в сквере, справа от памятника Вовочке. Говорит, когда в следующий раз мы снова появимся здесь же, оно будет в сохранности.
А ещё говорит, что время нашего беспамятства сокращается. Это значит, мы на верном пути, смеётся Яр. На верном пути к освобождению естественным путём. Но всё-таки не путём смерти. Не знавший рождения не знает и смерти, говорит Яр, а того дня, когда нас кто-то родил, не помнит даже он. А ему можно верить: он помнящий. Он помнит все наши пробуждения и даже то, что случается между ними. Мне жутко представить, что́ он помнит. По ночам говорит по-арамейски. По-арамейски, по-эллински, на латыни, санскрите, на старославянском и уду – был такой мертвый язык. Я могу его понять, если захочу, но мне не хочется: сдался мне этот уду? Да и что такого может бормотать Яр во сне: отдаёт военные команды или вспоминает любовницу, тысячу лет назад ставшую прахом.
Я же не помню ничего. Мне так проще. Порой кажется, что иочнуться до конца у меня не получается. Во всяком случае, не так, как у брата. А он, по-моему, никогда не теряет сознания до конца. И уж точно не стягивает с людей силы. Как он обходится без этого, я не представляю. Но он не нежить. Он уже почти не нежить. А я – да: нежить, дикая тварь из дикого Леса. Голодная и одинокая. Даже среди людей меня нет-нет да и потянет обратно. И тогда я совершаю поступки, за которые мне должно быть стыдно, будь я и правда в сознании. Но мне не стыдно. Вот как с этими травоядными. Не окажись стрелка, я бы стянула с них, сколько сумела. А теперь приходится ехать в город несолоно хлебавши.
Я устало прикрыла глаза. Вечерняя электричка в Москву, полутёмный вагон, народу много: кто дремлет, кто скучает, кто слушает музыку. У всех на лицах печать прошедших выходных. Я сейчас такая же, как и они: раздражённая, уставшая. И голодная, чертовски голодная.
Это моя специализация: с незапамятных времён я выбираю для охоты разнообразные человеческие сообщества. Они многочисленны, и, что важно, люди, попав в группу с руководителем, обычно настолько утрачивают самосознание, что не замечают, когда с них тянут. Поэтому всё проходит проще, быстрее и гуманнее, чем при индивидуальных контактах. Их я, признаться, не люблю и практикую в крайних случаях. Но как бы сейчас не пришлось… Нет, очень бы не хотелось: брат узнает – прибьёт.