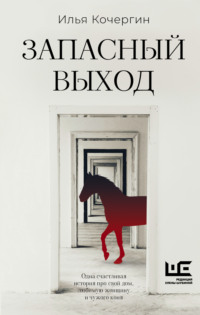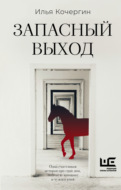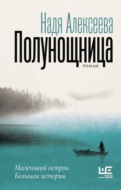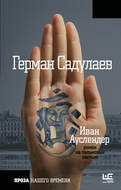Kitobni o'qish: «Запасный выход»
предисл. О. Балла-Гертман
ХудожникЕлизавета Корсакова
© Кочергин И. Н.
© Балла-Гертман О. А., предисловие. © ООО «Издательство АСТ».
* * *
Илья Кочергин родился в Москве в1970 году, учился в Институте стран Азии и Африки, закончил Литературный институт, работал лесником в Алтайском заповеднике, сейчас живет в Рязанской области. Автор книг «Помощник китайца», «Я, внук твой», «Точка сборки», «Ich ЛюбэDich» и «Присвоение пространства». Лауреат журналов «Знамя», «Новый мир», «Октябрь».
* * *
«Это настоящая лирическая проза, которая временами превращается в сценарий авторского кинофильма, наполненного образами, флешбэками, непривычными крупными планами».
«Новый мир»
Преодоление литературы
Уже прочитав совсем готовую к изданию книгу Ильи Кочергина, чувствуешь сильный соблазн перечитать ее заново – удерживая в памяти прочитанное и рассматривая вошедшие сюда тексты один сквозь другой. Причем на сей раз перечитать в обратном порядке, с конца, – независимо от того, когда именно был впервые опубликован каждый из составивших ее текстов: есть идеи, осуществляющие себя непоследовательно, нелинейно, и, вполне возможно, перед нами тот самый случай.
Во всяком случае, хочется устроить так, чтобы текст, давший название всей книге – «Запасный выход» (по объему это повесть, по формальным признакам – скорее уж дневник: хронологически последовательные записи явно о собственной жизни автора – датированные только по месяцам, годы впрямую не названы, но по ряду признаков узнаются безошибочно; по прихотливому, со многими непредсказуемыми отступлениями, ходу мысли при общности интуиций – ближе всего к эссе), – оказался прочитан последним и в полной мере раскрыл бы ту идею, которая, кажется читательскому глазу, за всем стоит. (Между прочим, этот текст действительно был впервые опубликован позже всех остальных – в мартовском «Новом мире» 2024 года.)
Сам автор судил иначе, поставив «Запасный выход» во главе сборника, как ключ к нему. Своя логика, впрочем, есть и в таком расположении; во всяком случае, в этой дневниковой повести отчетливо видится результат – может быть, промежуточный – некоторой эволюции.
Смыслом этой эволюции представляется постепенное перерастание литературой (личной литературной практикой автора) собственных формальных границ. Расшатывание и преодоление типовых беллетристических условностей и конвенций (отгораживающих нас, подобно всем условностям и конвенциям, для того и заведены, от бездны) и переход в новое качество.
В рамках конвенциональной беллетристики с сюжетом и выдуманными героями автору, кажется, всё теснее и теснее – хотя он прекрасно справляется со всеми ее правилами; тесно именно потому, что он прекрасно с ними справляется: тем виднее, тем очевиднее их фиктивная природа. Автор ищет – и находит – выход, тот самый, запасный.
Все остальные тексты сборника (в жанровом отношении каждый из них, без исключения, – классический рассказ) представляют разные этапы пути к этому прорыву, нащупывания его, осознания – и, наконец, осуществления – потребности в нем. Ступени, которые к нему подводят. Скорлупы, которые сбрасываются.
И автобиографизм, который (казалось бы) торжествует в «Запасном выходе», – на самом деле только инструмент – хотя инструмент очень действенный и совершенно необходимый, – который позволяет отделить все эти беллетристические скорлупы от тела смысла и, наконец, сбросить их. Вообще увидеть их как скорлупы, подлежащие сбрасыванию.
Итак, если восходить по воображаемой нами лестнице от нижней, наиболее прочной ступени к верхним, всё более проблематичным – и всё более интересным, на роль той самой прочной первой ступени идеально подходит «Экспедиция» – текст безупречно и правильно беллетристический, выстроенный по всем канонам. Следующий этап – «Сахар», который еще вполне умещается в беллетристические рамки, но написан (уже?) от первого лица (неважно, в какой мере это лицо автобиографично, достаточно и того, что оно – первое; в «Экспедиции» лицо еще третье, а повествователя с его личностными и жизненными особенностями не видно вообще). Далее – «Рыцарь», автобиографичность и невымышленность которого совсем уж несомненны (…или это только кажется? – но и в таком случае автор устроил это очень убедительно). Это всё еще рассказ с четким, последовательно выстроенным сюжетом, но весь сюжет здесь – жизнь человека, которого повествователь близко знал на протяжении многих лет, от сердцевины жизни до смерти, постепенные перемены в этом человеке – без всяких дополнительных беллетристических ухищрений. И, наконец, – «Запасный выход». Скорлупы трещат по швам; к концу этого текста они будут валяться у ног автора и читателя.
Вообще-то между рассказами этой книги и «Запасным выходом» есть, кажется, еще одно важное звено, которое в этот сборник не включено, поскольку пару лет назад было издано отдельной книгой: это «Присвоение пространства»1, собрание, условно говоря, путевой, травелогической эссеистики Кочергина – об отношениях, как и сказано в его названии, человека и пространств; о личных отношениях автора с ними (на самом деле все-таки – с самим собой посредством пространства), о смыслах и стимулах этих отношений. Для более полного понимания событий, о которых идет речь в «Запасном выходе», было бы, кажется, очень полезным прочитать «Присвоение пространства» и держать его перед внутренним взором, тем более что общая тема всех рассказов ныне обсуждаемой книги, в самом первом приближении, – человек и пространство, свободное от цивилизации, от ее удобств, защит и иллюзий; человек на границе между природой и культурой, попытки человека эту границу пересекать и то, что из этого получается; разные типы людей, которых что бы то ни было влечет к такому странному занятию, – от героини «Экспедиции», вполне поверхностной туристки Полины, которой природа чужда и страшна, до «рыцаря» Игорёши: по формальным обязанностям – сотрудник заповедника, патрулирующий его границы, по существу он – человек, не мыслящий себя без постоянного и полного опасностей взаимодействия с дикой и чуждой человеку природой, потому что, по его чувству, в этом и только в этом – полнота и подлинность жизни. И повествователь в рассказе совершенно разделяет – по крайней мере, поначалу – эту очарованность своего старшего друга:
«Нелегко было осадить Игорёшу, если он, налегая на согласные звуки, ломал крутые перевалы, рвал с плеча ружье перед вставшим медведем, дотягивал на пределе сил самые трудные последние километры, отогревал потерявшие чувствительность от мороза пальцы, чтобы единственной оставшейся спичкой разжечь костер. Мы выходили от Валиного насмешливого взгляда покурить и тут, на крыльце, уже свободно месили лыжами снег, тратили последние патроны и боролись за жизнь в трудной работе. Вернее, он боролся, а я бежал вприпрыжку за его рассказами и покрывался мурашками от предвкушения».
В такой жизни действительно оказывается очень много настоящего, целительного, спасающего повествователя от тупиков и ошибок его городской жизни: «Игорёша спас меня, – признается повествователь себе ли, нам ли, – от чего-то плохого. Тоскливого и позорного, ставшего почти неотвратимым».
Потом, правда, выяснится и проблематичность такого – казалось бы, совершенно прекрасного – образа жизни, и сопутствующей ему картины мира («Женщины, живущие в этом мире, обязаны быть прекрасны, вернее, они автоматически становятся прекрасны, оказавшись в нем. Мужчины сильны и честны, собаки и друзья умны и верны, злодеи великодушны, природа целительна и коварна, пейзажи живописны и дики. Мясо желательно полусырое, с ножа. Слова “йогурт”, “гендер”, “фитнес” никогда не проберутся в этот незрелый и прекрасный мир»). Спойлеров не будет, но, кажется мне, этот рассказ, как и все остальные тексты тут, как и вся книга вообще, – об избавлении от иллюзий. Даже самых целительных.
Ключевой же текст ныне представляемой книги, «Запасный выход», – о том, что происходит с человеком, когда пространство (в данном случае – деревня в Рязанской области, в которой автобиографический герой собственными руками строит дом) уже как будто вполне присвоено. Причинам потребности в таком доме и истории его возникновения в «Присвоении пространства» посвящено отдельное эссе. Тут – следующий шаг.
Основная сюжетная линия «Запасного выхода» – взаимоотношения главного героя-повествователя с конем Феней (он же, по официальному имени, Белфаст). Развитие этих отношений постепенно, шаг за шагом: от возникновения самой идеи поселить у себя коня («…гнедой двадцатилетний конь Феня буденновской породы завершил свою спортивную карьеру и вышел на пенсию. Будет проводить эту пенсию у нас. У нас будет жить пятисоткилограммовое существо и вступать с нами в контакт») до того, как конь и человек, наконец, начинают чувствовать и понимать друг друга (а человек при этом высвобождается из оков очередных человеческих представлений – например, о том, что самое осмысленное время – это то, что проведено в какой-нибудь созидательной деятельности. А вот нет! «Это совершенно впустую потраченное время – без упражнений, без работы, без команд, без усваиваемых навыков и знаний – кажется, сближает нас наилучшим образом»). Только начинают! «Веревка и проведенное вместе время немного привязали нас друг к другу». Конструкция – как и положено настоящему дневнику – разомкнута; основная же линия, пронизывая повествование, удерживает на себе много, много всего (ну примерно рассказ обо всей жизни автора в целом).
В первом приближении это проза этическая: об отношениях с собой, с природой, с этим вот единственным старым конем в его непостижимой индивидуальности, не очень-то склонной подчиняться человеческим программам. «Беда с упражнениями в том, что после каждой команды или указующего движения с нашей стороны конь смотрит на нас в задумчивости. То ли не хочет, то ли не понимает. Посмотрите в ответ на него, на его сухую морду, на огромное тело, созданное для движения. Вот и мы смотрели со смущением». Автор не то чтобы выстраивает – скорее, выщупывает своеобразную этику, основанную на внимательном постижении иного: «Мы вдыхали его запах, смотрели на его тело и ему в глаза, мы привыкали к тому, что он немой иностранец. Приучались к его доброжелательному взгляду немного сквозь тебя, к выразительным движениям ушей, к своей глухоте и неумению владеть своими “неподатливыми телами”, слишком зажатыми для того, чтобы общаться с ним».
Bepul matn qismi tugad.