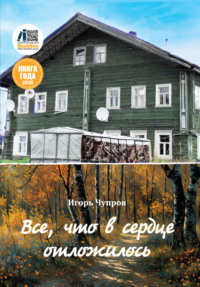Kitobni o'qish: «Все, что в сердце отложилось»
Памяти вдов воинов Нарьян-Мара,
без вести пропавших на фронтах
Великой Отечественной войны,
посвящается
© Игорь Чупров, 2025
© Издательский дом «BookBox», 2025
От автора
Меня, уроженца семьи староверов из Усть-Цильмы, пригласили на родословные чтения «В Усть-Цильме повезло родиться». Чтения проходили в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте РФ в феврале 2012 г. Организовало их московское представительство Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» и его председатель Татьяна Дмитриевна Вокуева.
Я не являюсь жителем Усть-Цильмы: с рождения жил в Нарьян-Маре, учился в Питере, работал в Каунасе. Татьяна Дмитриевна, а также члены нашего большого усть-цилемского рода убедили меня взяться за составление родословной моей семьи.
Процесс поиска разнообразных сведений и написания семейной истории так завладел мною, что само собой возникло желание доверить бумаге и воспоминания о трудном детстве в послевоенном Нарьян-Маре. Я совсем не планировал создавать книгу. Мне лишь хотелось ностальгическими воспоминаниями о прошлом скрасить нынешнее, не очень легкое, бытие моих сверстников и сверстниц – выпускников средней школы № 1 Нарьян-Мара, одноклассников пятидесятых годов XX века.
Получив мои мемуарные опыты по электронной почте, корреспондентки стали просить (и даже требовать): пиши дальше. Мысленно возвращаясь в минувшее, я словно преодолевал ступеньку за ступенькой лестницы тогдашнего, почти спартанского, существования: сенокос, рыбалка, охота, морошка, учеба, спорт, дружба, работа, наука… За два месяца я излил на бумагу все, что отложилось в сердце за 70 прожитых лет.
Первый вариант книжки издал скромным тиражом в апреле 2012 г., чтобы экземпляры ее вручить в качестве подарка родной школе по случаю празднования ее 80‐летия, учителям, которые меня учили, и своим бывшим одноклассникам на память о нашем трудном послевоенном детстве. У половины из них, как и у меня, отцы не вернулись с Войны.
Получив свыше десятка лестных отзывов на свои воспоминания, позволю себе опубликовать один из них, от Нины, проживающей в Литве:
«Добрый вечер Игорь! Прочла „Все, что в сердце отложилось“ и несколько дней хожу под впечатлением. Какое точное название! В художественной литературе присутствует вымысел автора, сочиненные герои, события вызывают эмоции, сочувствие, но в глубине знаешь, что это вымысел, театр ролей. Реальные события описывают журналисты, но это – взгляд со стороны!
И другое дело, когда книга о прожитом и пережитом самим! Действие идет из глубины сердца, пропущено через сердце, и у читателей это вызывает не сочувствие, а сопричастность. Это другая энергетика, другой уровень! От сердца к сердцу. Прочитанное вызывает чувство гордости, восхищения силой духа людей, прошедших через невероятные трудности военной и послевоенной поры. Иногда, наверно, было легче на фронте, чем выжить в тылу, вырастить таких замечательных детей и остаться собой! Да, Игорь, славное у вас было детство, да и вся ваша жизнь говорит, как много значат наши истоки.
Мне очень понравился дом вашей семьи, на славу срубленный, большой, не покосился, не покривился и спустя 200 лет в нем живут люди, и до сих пор в доме сила чувствуется.
Обычно история любого государства – это история царей, королей, полководцев. На самом деле, это история народа, история преодолений нечеловеческих трудностей, испытаний. И эта сила духа так отчетливо видна на фотографии вашей мамы, и становится ясно, что она своих детей поднимет! Игорь, ваша книга очень ценная, она актуальна, это книга на все времена, она дает и веру и силу! Нина».
В 2015 г. я обратился в Совет по вопросам редакционно-издательской деятельности государственных органов исполнительной власти и государственных учреждений НАО с просьбой рассмотреть возможность издания в год семидесятилетия со дня окончания Великой Отечественной Войны моей книги более солидным тиражом. Свою просьбу обосновал тем, что на примере своей семьи я пытался показать, как вдовы воинов Нарьян-Мара, не вернувшихся с Войны, памяти которых посвящена книга, растили своих детей, делая все для того, чтобы их дочери и сыновья были не только сыты и обуты, но и выросли достойными своих отцов. На мой взгляд, материнский подвиг вдов Войны достоин уважения и памяти не менее, чем воинские подвиги их мужей и сыновей. Во многом благодаря их героическому труду в послевоенные годы страна поднялась из руин, оставленных войной. К великому сожалению, мы, отдавая должное по случаю круглых дат со дня Победы подвигам мужей и сыновей, забываем о подвигах их жен и матерей.
Упомянутый выше Совет, рассмотрев мою просьбу, принял решение издать мою книгу и тем самым донести мои воспоминания и мысли о былом до читателей НАО.
Но, в 2015 году книгу в НАО так и не издали. Очень надеюсь, что в год 80‐летия Великой Победы мои воспоминания о тридцатых – пятидесятых годах (и не только о них) дойдут до читателей России и, конечно, НАО.
Игорь Чупров

Игорь Чупров под окнами родового дома в Усть-Цильме
Откуда мы родом
Мои родственники – троюродная сестра по линии матери, Ирина Васильевна Кутепова, и троюродный брат со стороны отца, Григорий Васильевич Чупров, живущие ныне в Ухте, а также двоюродный брат со стороны матери, Валерий Васильевич Носов, житель Усть-Цильмы, несколько лет назад начали искать корни нашего рода. От них я и узнал начала своей родословной.
Основателем рода по линии отца, как установил Григорий Васильевич, был Михаил Чупров из деревни Кривомежка (Кривомежное), расположенной недалеко от села Трусово по реке Цильме. У Михаила было три сына – Петр (1‐й), Иван, Петр (2‐й) – и три дочери.
Петр (1‐й) родился в 1843 году, а в 1875‐м переехал со своей семьей в Усть-Цильму. В 1880 году он срубил на высоком берегу Печоры двухэтажный дом на четыре семьи. Дом строил большой, так как в семье уже росло три сына: Иван, Перфил и Петр. В 1884 году родилась дочь Анна. Дом стоит и поныне на улице Набережной, 43.
Чтобы выжить в жестких условиях Приполярья, усть-цилёмы жили и вели хозяйство родами. В ежедневном общении фамилию нередко заменяло прозвище, данное по какому-то общему признаку рода. Род отца звался Чарнышевыми. Прозвище они получили по цвету кожи – большинство их мужчин были очень смуглыми. Такова первая версия.
Григорий Васильевич рассказал еще одну, услышанную от отца и моего дяди, Тимофея Перфильевича: «За домом по ул. Советской, 39, где мы летом пили чай, протекает Остапков ручей. Место за ручьем в сторону пристани раньше называлось Каравановка потому, что в районе пристани и ниже причаливали караваны лодок и каюков чердынских купцов. Поскольку дом наших дедов находился недалеко от Каравановки и берег позволял чалиться лодкам и баржам, то в наш большой двухэтажный дом на берегу реки всегда на постой просились приезжие купцы. И от слова чердынцы появилось измененное название рода – Чарнышевы». Но это только предположение.
«Из рассказов отца помню, – сообщил мне Григорий Васильевич, – что у рода Чарнышевых – Ивана Петровича, Перфила Петровича, Петра Петровича и Анны Петровны – недалеко от деревни Уег были земли, заливные луга и постройки. Местечко называлось Высокая земля. Отец рассказывал, что в детстве видел там деревянные ящички (формы), в которых прессовали сливочное масло, примерно по килограмму, и на формах было вырезано клеймо ЧИП (Чупров Иван Петрович). Масло с этим товарным знаком охотно покупали купцы в Мезени и Архангельске на зимних ярмарках, куда возили наши деды свой товар по тракту Усть-Цильма – Архангельск. Видимо, твой дед, Иван Петрович, неоднократно бывал в Мезени и Архангельске. В Архангельске и был похоронен. Причины столь короткой жизни его мне неизвестны».
Письмо Григория Васильевича напомнило мне, как в середине пятидесятых годов мать просила мою старшую сестру Татьяну, уезжавшую в Архангельск, поискать могилу деда Ивана. В 1914 году он уехал в Архангельск на ярмарку, заболел там и умер.
О судьбе моей бабушки, жены деда Ивана, ничего не удалось узнать. Известно только, что звали ее Анна Степановна, и что она после смерти мужа то ли умерла, то ли второй раз вышла замуж.
По этой причине мой отец, Иосиф Иванович, с десяти лет рос сиротой в большом родовом доме Чарнышевых.
От Ирины Васильевны Кутеповой я узнал, что одна из ветвей нашего рода со стороны матери носила название Глухины: «Первым из рода Глухиных в Усть-Цильму приехал Иван Вокуев, – написала она мне. – Он был глухим (отсюда и название рода), прожил на свете 104 года.
У Ивана было два сына – Евграф Иванович и Петр Иванович. Известно, что Евграф Иванович со своим сыном куда-то исчезли после того, как нашли какой-то клад.
А вот от Петра Ивановича пошла дальнейшая ветвь рода Глухиных. Сколько имелось детей у Петра Ивановича, отец мне так и не сказал. Но один из них, Василий Петрович, женившийся на Анисье Марковне, является нашим прадедом. Анисья Марковна рожала 22 раза и прожила на свете 99 лет.
Дети Василия Петровича и Анисьи Марковны: Трифон, Федор, Филипп, Василий, Яков, Прасковья, Гаврил, Аграфена, Агафья, Екатерина.
Какова последовательность и даты рождений – я не знаю.
Получается, что мой дед Трифон и Ваша бабушка Екатерина – родные брат и сестра. Ваша мама, Ирина Васильевна, и мой отец, Василий Трифонович, – двоюродные брат и сестра. Выходит, Вы и я – троюродные брат и сестра.
Кстати, Вашу бабушку Екатерину в Усть-Цильме все звали Катей-костоправкой. Про нее ходят в селе легенды. Я ее помню. Она трижды вправляла мне вывихи».
В детстве мама мне рассказывала, что в Усть-Цильме в те годы многие рода были обязаны передавать из поколения в поколение выполнение того или иного умения в интересах всей округи. Иван Андреевич выполнял обязанности костоправа и передал свою общественную обязанность бабушке Катерине. Мать сильно огорчалась, что, выйдя второй раз замуж, бабушка Катерина специальность костоправа по наследству так никому и не передала.
В том, что бабушка Катя была хорошей костоправкой, я убедился на собственном опыте. Кажется, в 1947 году, мальчишкой, я бежал рядом с поднимающимся медленно в гору от речного порта грузовиком, и кричал сидящему в кузове дяде: «Дядя, прокати». Он сжалился надо мной, схватил за руку и резким движением поднял в кузов.
Вывих локтевого сустава правой руки не заставил себя ждать. Мать не повела меня в городскую больницу, а через два дня со знакомым первым помощником капитана парохода «Молоков» (дядей Федей, тоже усть-цилёмом) отправила в Усть-Цильму к бабушке. Бабушка на ощупь, так как почти ничего не видела, обследовала мою руку, затем два дня растирала ее в бане, и, в завершение процедуры, резко дернула. Мой локтевой сустав встал на место.
Вот такими были наши предки.
Я родился в 1940 году. В моем свидетельстве о рождении записано, что родился я в селе Усть-Цильма. На самом деле мать родила меня в бане деревни Каменка на берегу реки Печоры. Она, как истинная староверка, не захотела рожать в больнице Нарьян-Мара, где «всё погано», но доехать на пароходе до Усть-Цильмы не успела.
Отец родился в семье староверов, а, значит, не пил, не курил и свято соблюдал заповедь «не укради». За шесть лет работы заведующим складом не имел ни одного взыскания или недостачи. Но с началом войны кому-то стал не по нраву заведующий, который сам не берет и другим брать не дает. И этот кто-то в конце 1941 года подбросил в органы анонимку, гласившую, что И. И. Чупров украл со склада и выпил бутылку водки. Было указано место, где теперь бутылка лежит. Бутылку органы дознания нашли, провели ревизию, недостачи не обнаружили (у сестры до сих пор хранится копия акта ревизии), тем не менее, отца судили, приговорили к году лагерей и отправили в Медвежку – село на Печоре, в Коми АССР.
Через четыре или пять месяцев отца освободили с формулировкой «за ударный труд и примерное поведение». После освобождения он приехал в Усть-Цильму и сразу был отправлен на фронт. А в 1943 году мать получила известие, что ее муж пропал без вести. Она начала свои долгие поиски, опрашивала призванных вместе с отцом в армию, пока ей не удалось разыскать в Усть-Цильме его однополчанина. Тот рассказал, как в начале 1942 года почти вся их часть сложила головы при штурме безымянной высоты под Ворошиловградом (Луганском). Он же получил ранение в самом начале штурма и попал в госпиталь, благодаря этому и уцелел. После неудавшегося штурма высоты наши войска отступили. Всех, кто остался лежать там, занесли в списки без вести пропавших.

Родовой дом Чарнышевых в Усть-Цильме, 2011 г.
Когда отца арестовали, в семье уже росло четверо детей, ожидался пятый (сестра Елена родилась в мае 1942 года). Несмотря на это, после отправки отца в Медвежку мы получили приказ освободить занимаемую квартиру без предоставления другой жилплощади, то есть многодетную семью просто выбросили на улицу. «Квартирный вопрос» всегда стоял остро. Нарьян-марцы жили не только в домах и бараках, но и в землянках, выкопанных в песчаных холмах в районе Калюша. Одним словом, желающих занять наше жилье могло быть немало.
От голодной смерти на улице семью спас Тимофей Мокеевич Хатанзейский, директор колхозно-совхозной школы – будущего сельхозтехникума. Он хорошо знал отца по совместной работе в Рыболовпотребсоюзе и понимал абсурдность предъявленного ему обвинения. На свой страх и риск он принял на работу нашу мать на должность конюха, с предоставлением жилплощади в виде холодной конуры в здании школы по улице Выучейского.
Тимофей Мокеевич был человек не очень решительный и мягкосердечный. Поэтому непростое по тем временам решение – приютить семью осужденного – он принял лишь под давлением своей супруги, Анны Александровны, и жены преподавателя Стрелкова – Антонины Ефимовны. Нашей семье очень повезло, что в тот момент в городе жили эти замечательные женщины «из бывших», из интеллигенции дореволюционной формации.
В обязанности конюха входило не только кормить, поить и содержать школьных лошадей, но и обеспечивать водой столовую и общежитие, находившиеся в том же здании, а школу – дровами. Воду – не менее пяти (а то и десяти) трехсотлитровых бочек – приходилось возить с колодца каждый день, потом переливать ведром в специальные чаны, а дрова добывать из вмерзших в речной лед на реке плотов. Длина бревен составляла пять-шесть метров, диаметр – от двадцати до сорока сантиметров. Вес их в несколько раз превышал собственный вес женщины-конюха, которая с помощью пешни выкалывала их изо льда, закатывала на сани с подсанками, привозила во двор школы и распиливала.
Кроме этого, ей нужно было поить, кормить и два раза в день доить свою корову, не говоря уже о необходимости ежедневно решать проблему, чем накормить пятерых детей и полуслепую бабушку. В то голодное и страшное время матери удалось спасти жизни младших детей, мою и сестры Елены, лишь благодаря корове. Но и корова хочет есть. Старое поколение нарьян-марцев, наверное, подзабыло, а молодое никогда не знало, что на прокорм коровы требовалось заготовить за короткое лето не менее десяти-двенадцати возов сена, по тридцать пудов каждый. А для этого требовался сенокосный участок площадью не менее двух гектаров.
Воспитанный матерью и бабушкой в староверческой среде, я не состоял в пионерах, никогда не вступал в партию, но и верующим тоже не был. Однако порою склонен думать, что только Бог помог нашей матери выжить в страшных переделках, в которых она побывала, заготавливая и перевозя сено и по воде, и по суше.
Самое яркое воспоминание из моего детства связано с вывозкой сена. Однажды знакомые тетушки и бабушки собрались оплакивать нас, ставших круглыми сиротами: три дня назад наша мать уехала в сорокаградусный мороз за сеном и пропала. Значит, замерзла. Но она вернулась живой! Ее засыпали вопросами – что да как? Оказалось, на обратном пути она выбилась из сил, взобралась на воз сена и заснула. Надеялась, что лошадь, обычно сама находившая дорогу, привезет ее к дому.
Тащить воз сена по бездорожью коняге было очень тяжело, поэтому он, дойдя до первой замерзшей забереги …пошел по ней в противоположную от дома сторону. Так они заблудились. Чтобы лошадь не замерзла, мать выпрягла ее из оглоблей, привязала к возу сена – если у лошади есть корм, она не замерзнет, – сама же двое суток искала сначала дорогу домой, а затем – оставленную на реке лошадь с возом.
Нужно сказать, что даже в те тяжелейшие военные и послевоенные годы далеко не все бедствовали и голодали в Нарьян-Маре. Некоторые могли себе позволить щеголять по деревянным мостовым города летом в хромовых сапожках, зимой в шикарных белых валенках и бурках из белого фетра и шить на заказ модные мужские сорочки из шелка в серо-голубую полоску. Запомнил я это потому, что мать и по ночам работала – шила мужские сорочки, а по заказу соседа-сапожника пришивала голенища к передкам хромовых сапожек на привезенной еще из Усть-Цильмы швейной машинке «Зингер» образца 1903 года.
Bepul matn qismi tugad.