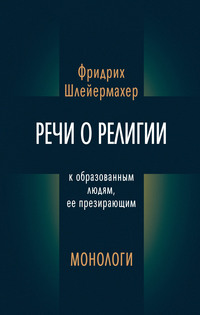Kitobni o'qish: «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи (сборник)»
© ООО «Икс-Хистори», 2015
* * *
Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера
I
Личность и воззрения Шлейермахера мало известны у нас. А между тем он был одной из крупнейших фигур того немецкого духовного движения конца XVIII и начала XIX века, которое зовется «романтической школой». И – что, быть может, самое замечательное – он был, кажется, единственным мыслителем этой эпохи, идеи которого непрерывно влияли и продолжают доселе влиять на немецкую мысль. Многие единомышленники и соратники Шлейермахера сохранили для нас лишь исторический интерес, например, Фридрих Шлегель; другие, как Фихте и Шеллинг, только теперь начинают возрождаться из несправедливого забвения; романтические поэты, за единственным исключением гениального юноши Новалиса, также не могут оказывать сколько-нибудь сильного влияния на современные души. От одного только Шлейермахера идет в Германии непрерывная нить традиции и духовного воздействия вплоть до наших дней. Конечно, суждение даже целого столетия не есть еще окончательный «приговор истории»; но оно, по меньшей мере, свидетельствует, что идеи Шлейермахера обладают исключительной жизнеспособностью и что они были менее всего подчинены узким местным и временным влияниям. Можно также сказать, что оно свидетельствует о некотором здоровом реализме и жизненной широте его воззрений, ибо все фантастическое, субъективное и вычурное не может сохраниться в смене даже немногих поколений. Шлейермахер живет доселе в немецкой научной мысли: его религиозно-философские воззрения образуют основу и исходную точку всего немецкого протестантского богословия, и его историко-философские изыскания, наряду с «Историей философии» Гегеля, также положили начало всей немецкой истории философии. Что касается его этических взглядов, сущность которых выражена в «Монологах», то, по крайней мере, относительно 60-х годов XIX века, когда немецкий идеализм и романтическое мировоззрение были более всего забыты и презрены в Германии, биограф Шлейермахера говорит: «Среди всех моральных сочинений современных мыслителей только “Монологи” действуют доселе на широкие круги. Где они встречаются более глубоким натурам в решающие годы развития, они почти всегда оказывают определяющее влияние. Каждый внимательный наблюдатель знает немалое число людей, которые обязаны именно “Монологам” толчком к более сознательной и высокой нравственной жизни»1. С того времени это влияние, несомненно, скорее возросло, чем понизилось.
Но, конечно, главное значение Шлейермахера тесно связано со всем тем кругом идей и настроений, которые волновали немецкую мысль в эпоху романтизма, и может быть правильно оценено лишь на фоне того, что есть объективно верного в этом движении, или что по меньшей мере сохраняет силу для нашего времени. «Речи о религии» Шлейермахера являются одной из высших вершин этого замечательного движения мысли, и их значение для той эпохи – а, следовательно, косвенно для исторического развития идей вообще – начинает в полной мере уясняться только теперь. Правда, Шлейермахер сам испытал на себе влияние Канта, Фихте, Шеллинга (не считая более ранних мыслителей, главным образом, возрожденного трудами Якоби Спинозы). Но своеобразный синтез этих идей и их слияние в религиозно-философское мировоззрение есть самостоятельное деяние Шлейермахера, в котором впервые, за исключением более ранних натурфилософских сочинений Шеллинга, был совершен переход от интеллектуалистического идеализма Канта и Фихте к религиозному реализму. Шеллинг, который вначале встретил «Речи о религии» отрицательно и в известном стихотворном «Эпикурейском исповедании» противопоставил религиозному мировоззрению Шлейермахера жизнерадостную любовь к природе как основной мотив своей натурфилософии, вскоре затем признал себя повинным в «непростительной небрежности» и объявил «Речи о религии» «прекраснейшим выражением или, скорее даже, образом вселенной», а их автора – великим и вдохновенным мыслителем2. «Речи о религии», несомненно, предвосхитили одну из самых глубоких, тогда еще не высказанных основ шеллинговой философии – новое, реалистическое понимание «интеллектуального созерцания». Еще более решающее влияние оказали «Речи» на Гегеля. Правда, это влияние было скрытым, и если не считать мимоходом высказанного одобрения в первом сочинении Гегеля «О различии между философскими системами Фихте и Шеллинга», где он признает в «Речах» «влечение лучшего духа согласовать разум с природой и избавить природу от насилий, творимых над нею системами Канта и Фихте», то значение Шлейермахера для мировоззрения Гегеля внешним образом нигде не видно из произведений последнего, а его позднейшая резкая оценка богословского учения Шлейермахера3 свидетельствует о глубоком антагонизме между этими двумя умами. Однако в отношении Гегеля к Шлейермахеру сказывается лишь его общая неблагодарность к романтическому мировоззрению, из которого родилась его система. И в настоящее время, благодаря работе Дильтея о юношеском развитии Гегеля и опубликованным по его почину ранним работам Гегеля4, мы знаем, что основная идея гегелевской философии – идея объективного духа, или соборного сознания, как носителя исторического развития возникла из религиозно-исторических размышлений, на которые непосредственно натолкнули Гегеля «Речи о религии» Шлейермахера. Наряду с этими философскими влияниями «Речей» надлежит отметить их могущественное действие на религиозную поэзию Новалиса и на замыслы его философских романов.
Но место Шлейермахера в этом духовном движении определяется еще и иначе. Если исключить Гёте, который стоял в стороне от этого брожения мыслей и чувств или, вернее, над ним, и с высоты своего гармонически-целостного умонастроения спокойно учитывал как сильные и плодотворные, так и слабые и незрелые стороны в идейном мятеже романтизма, – то Шлейермахера придется признать единственным трезвым в среде опьяненных. Он один умерял порожденную действием его же собственных воззрений фантастическую мечту о слиянии поэзии с наукой в единое религиозное знание, незрелые замыслы поэтического мифотворчества и всякого рода упования на возрождение религии литературными средствами. Уяснив единство научного и поэтического созерцания с мистическим сознанием в их исходных точках, он отчетливо отметил ненарушимые грани между этими духовными сферами в их дальнейшем самостоятельном развитии. Он хорошо понимал религиозную слабость «фантастических натур», которым, говоря словами его «Речей», «недостает силы проникновения вовнутрь, способности овладевать существенным» и которые «привыкли останавливаться на призрачном, и потому вместо здоровой и сильной жизни имеют лишь рассеянные и беглые душевные движения»; он понимал также односторонность замкнутого, обращенного лишь вовнутрь субъективизма, в котором «высшее чувство неразвито и скудно», и «истинное внутреннее общение с миром болезненно и ограниченно». Он ставил себе задачу, с одной стороны, показать безграничную широту и здоровую жизненную насыщенность религиозного сознания, не мирящуюся ни с какой сектантской узостью и болезненной усеченностью духовного бытия, и с другой стороны – уяснить самобытную природу религии, не допускающую смутного, бесформенного отождествления ее с метафизикой, моралью или поэзией. Он сознавал, что религия, будучи сама по себе верховным и абсолютным началом духовной жизни, должна быть, вместе с тем, все же понята как одна из функций духа, не стесняющая остальных его отправлений и не сливающаяся с ними; эту трудную проблему иерархии духовных сфер, органической неразрывности и, вместе, дифференцированность функций духовной жизни он, по крайней мере, ясно постигал и пытался разрешить, тогда как окружавшая его идейная среда порождала либо явления духовной бесформенности – всякого рода фальсификацию религии или игру в религию, будь то «естественная религия» просветительства или поэтическая религия романтиков, – либо же явления духовного деспотизма религии в форме сектантского догматизма и фанатического изуверства. В Шлейермахере более зрелое человеческое сознание XIX века, преодолевшее рационализм XVIII века и, вместе с тем, насыщенное духовным наследием всей новой европейской культуры, как бы опознало свое религиозное содержание. Он сумел найти слова для невыразимого, вскрыть тайну религиозного чувства и утвердить для него место среди сложных и, по-видимому, враждебных ему элементов нового жизнепонимания.
Это историческое значение Шлейермахера есть вместе с тем и его современное значение. Мыслящему наблюдателю современных духовных течений бросается в глаза их поразительное сходство с умственным движением начала XIX века. Конечно, в истории ничто не повторяется, и наряду со сходством можно отметить и существенные черты различия. Уже научное и, главным образом, историческое значение, накопленное XIX веком, определяет важную разницу между нашим временем и началом прошлого столетия. Материал мысли расширился и утончился во всех направлениях, опыт бесконечно возрос, и, соответственно этому, всякого рода надежды и замыслы должны считаться с большими трудностями и вместе с юношеской наивностью теряют и смелость юношеского размаха. Но главные, господствующие ныне мотивы все же в основных своих чертах повторяют мотивы начала XIX века: глубокое разочарование во всех формах рационализма, перенесение центра тяжести интереса с внешней стороны жизни на внутреннюю, мечты о возрождении утраченной органической целостности духовного бытия. Философское движение нашего времени, начав с рецепции мировоззрения Канта, уже возродило в новой форме философские идеи Фихте и Якоби и неизбежно наталкивается на проблемы Шеллинга и Гегеля. Социологическая мысль среди крушения социализма посвящена той же критике социального рационализма, которая лежит в основе философско-исторического мировоззрения Бёрка и Бональда, Гегеля и исторической школы. Что все современное искусство стоит под знаком романтического бунта и разделяет и его сильные, и его слабые стороны – это не требует особых пояснений. Достаточно известно также, что это брожение идей снова поставило на очередь проблему религии. Можно указать даже на книгу, которая почти ровно через 100 лет после «Речей о религии» Шлейермахера выдвинула и осветила вопрос о природе и правах религиозного сознания и для нашего времени имеет приблизительно то же значение, что книга Шлейермахера – для той эпохи: это – «Многообразие религиозного опыта» Джемса5; основные идеи этой книги почти совершенно совпадают с идеями Шлейермахера, и можно, не умаляя ценности этой книги, с полным основанием сказать, что Джемс только снова нашел для современных людей ту Америку, которая за 100 лет до него была открыта и в некоторых отношениях гораздо точнее описана Шлейермахером.
II
Фридрих Даниель Шлейермахер родился в 1768 г. в Бреславле. Его отец и оба деда были пасторами, и в особенности его дед со стороны отца, Даниель Шлейермахер, был даровитой и страстной религиозной натурой, жизнь которой протекла в бурных религиозных увлечениях и разочарованиях. В 1783 г., на пятнадцатом году, Шлейермахер поступил в гимназию гернгутерской «братской общины» в Ниски (в Силезии, около Герлица) и через два года перешел в гернгутерский богословский семинарий в Барби. Гернгутерские «братские общины» распространились в Германии в первой половине XVIII века усилиями графа Цинцендорфа и представляли как бы церковные организации пиетизма. Центром их религиозного настроения была идея греховности и искупления, и в своих воспитательных учреждениях они сумели сделать эту идею личным опытом каждого члена, заставлять переживать ее ежедневно и ежечасно. Характерная черта религиозности гернгутеров состояла в том, что религия не была в их жизни обособленным началом, а пропитывала и определяла всю их семейную и общинную жизнь, все условия быта и деятельности. Когда Шлейермахер поступил в гернгутерскую школу, пиетизм вне братских общин находился уже в упадке, отчасти потеряв внутреннюю духовную силу, отчасти побежденный просветительским богословием школы Вольфа. Но тем строже ограждался аскетический религиозный дух в школах гернгутеров от соприкосновения с новой наукой и философией, со всяким веянием нового мировоззрения. Новые мысли проникали в богословский семинарий Барби контрабандой, наставники умели только насильственно подавлять, а не внутренне разрешать религиозные сомнения юношей; и один за другим лучшие воспитанники семинарии уходили из него в университеты. Покинул его и Шлейермахер после тяжкого религиозного кризиса и, несмотря на увещания и угрозы отца, перешел в Галльский университет.
Этот юношеский кризис не нарушил, однако, в Шлейермахере преемственности религиозного развития. Религиозность была не только привита ему средой, воспринята в детских и отроческих впечатлениях; она лежала у него в крови как органическая сила, унаследованная от предков. Он сам говорит о себе в «Речах о религии»: «Благочестие было материнским телом, в святой тьме которого питалась моя юная жизнь и подготовлялась еще к скрытому от нее миру; в нем дышал мой дух, пока он еще не нашел соответствующей себе сферы в науке и жизненном опыте; оно помогало мне, когда я начал проверять веру отцов и очищать мысли и чувства от мусора прошедших времен; оно осталось у меня, даже когда Бог и бессмертие поры детства исчезли перед моим сомневающимся взором». Правда, это «благочестие» в течение долгого, десятилетнего периода ученичества и скитаний – от вступления в Галльский университет весной 1787 г. до начала берлинской жизни осенью 1798 г. – находилось как бы в скрытом состоянии. На мировоззрение Шлейермахера оказывает влияние сперва философия немецкого просветительства, представителем которой в Галле был известный противник Канта Эбергард, и вскоре затем философия Канта, которая навсегда осталась одним из элементов жизнепонимания Шлейермахера. Философские и моральные интересы занимают его ум и в студенческую пору, и в следующие за ней годы, проведенные им в роли домашнего учителя в семье графа Дона и затем на месте проповедника в маленьком городке Ландсберге, недалеко от Франкфурта-на-Одере. Опубликованные Дильтеем «Памятники внутреннего развития Шлейермахера»6 показывают, с какой независимостью юный мыслитель относился ко всем действовавшим на него идейным течениям. Мы не можем найти в его развитии какую-либо систему, которая оказала бы на него такое внезапное и решающее влияние, какое воспринял, например, Спиноза от Декарта или Фихте от Канта. Он медленно и упорно трудился над усвоением философии Канта, но вместе с тем сразу же отнесся критически к слабым ее пунктам, обнаружив противоречия в учении Канта о «вещах в себе» и о свободе воли и не найдя удовлетворения в моральной и религиозно-философской стороне доктрин Канта. Существенное влияние оказали на него и сочинения Якоби, но и к ним он сразу же обнаружил независимое и критическое настроение. Ознакомившись через Якоби с системой Спинозы (сочинения Спинозы были тогда еще недоступны в Германии), он с присущей ему историко-философской интуицией понял их гораздо вернее и глубже, чем Якоби; мировоззрение Спинозы во многих отношениях привлекло его, но и здесь он подметил слабый пункт в вопросе об отношении бесконечного к конечному и индивидуальному; и понимание проблемы индивидуальности, определившее позднее мировоззрение Шлейермахера, не дало ему возможности удовлетвориться рационалистическим пантеизмом. Наряду с этим изучением новой философии идет самостоятельное исследование философии Аристотеля и, в особенности, Платона, к которому Шлейермахер испытывает тяготение с юношеской поры. Итогом всех этих работ и размышлений, как и непрерывного внутреннего духовного развития, явилось разочарование не только в обычной рационалистической морали и религиозной философии, но и в более тонких, в конечном счете, все же рационалистических, идеях Канта о морали и религии. Но так как коренной интерес Шлейермахера сосредоточивался именно на проблемах морали и религии, на самой моральной и религиозной жизни, то этот отрицательный отвлеченный итог сам собою претворился в положительное духовное переживание – в сознание самобытности нравственности и религии как особых жизненных начал, в потребность уяснить эти начала из них самих, из их собственных глубочайших корней. «Примат практического (и религиозного) разума» над теоретическим, отвлеченно формулированный Кантом, у которого этот примат, однако, теряет свое жизненное значение в силу совершенной интеллектуализации «практического разума», – в душе Шлейермахера преобразился в совершенно новую духовную формацию, в новый пафос, исходя из которого он достиг нового, чуждого всякому рационализму, понимания моральной и религиозной жизни. С этим еще только намечающимся мировоззрением он вступает в замечательный молодой кружок берлинской интеллигенции, с которым отныне связывается его жизнь и деятельность и в духовной атмосфере которого он обрел плоды своих долгих одиноких исканий.
Шлейермахер принадлежит к духовному типу людей, основной интерес которых направлен не на сферу объективного, а на внутреннюю жизнь личности. Он не ищет знания ради знания, не ищет также внешней деятельности и внешнего воплощения своего идеала; он занят всегда только своим внутренним развитием и самовоспитанием и работает только над самим собой. Идеи и поступки нужны ему лишь как орудия и символы «внутреннего действования» (innere Handlung), как внешний механизм для внутренней работы личности. Как бы велико ни было значение научной и практической деятельности Шлейермахера, его роль в развитии философских идей и в исторической эволюции протестантизма, – все это есть лишь как бы невольное и второстепенное отражение его значения как нравственной и религиозной личности. По своим природным задаткам, как и по характеру своего творчества, он был гением жизни. Таким он является нам в самых замечательных своих литературных произведениях, в «Монологах» и «Речах о религии», таким он обнаруживается во всей истории своей жизни, таким же он непосредственно являлся своим друзьям и современникам. «Что для меня неисчерпаемо плодотворно в тебе, – писал ему Фридрих Шлегель, – это то, что ты существуешь. Ты для меня в отношении человечности то же, что для меня были Фихте и Гёте в отношении философии и поэзии». А тонкий знаток людей Варнгаген писал про него в своем дневнике: «Я охотно признаю его великую ценность как ученого, проповедника, писателя, вообще как человека ума и науки; но все это всегда казалось мне лишь блестящим приданым, которое он получил для своего подлинного жизненного назначения. В задачах, которые он должен был одолевать как человек в сфере чисто человеческих отношений, лежит его высшее отличие, его величайший интерес для мира».
Такому существу, конечно, нужны прежде всего не книги и идеи, а общение с живыми людьми, и притом общение личное, затрагивающее самые корни «я» и открывающее простор для его самообнаружения. Именно поэтому кружок духовно одаренных и идеально настроенных людей, в который вступил отныне Шлейермахер, был в его жизни единственным внешним фактором, действительно повлиявшим на него и пробудившим его гений к зрелой деятельности. То, что раньше занимало его душу в книгах и отвлеченных мыслях (хотя и в этот период биография его вскрывает значение некоторых личных связей), теперь, выступив перед ним в форме личностей и отношений к ним, сразу дает толчок для раскрытия внутреннего богатства его духа, для живого и плодотворного овладения глубочайшими темами и мотивами духовной культуры. «Всем я владею теперь внутренне, – писал он своей сестре через год после переселения в Берлин, – моими письмами, проповедями, моей философией». В интимном общении (чуждом всякого элемента любовного увлечения) с одной из самых замечательных женщин того времени, с Генриеттой Герц, в тесной дружбе и непрерывной совместной работе с Фридрихом Шлегелем, в личном и идейном соприкосновении с Гарденбергом-Новалисом, Тиком, Фихте и другими, в атмосфере неизмеримого духовного влияния Гёте, жизненные идеалы которого, выраженные в «Вильгельме Мейстере», в ту пору стояли в центре общественного внимания, – наконец, в самоотверженной и возвышающей любви к Элеоноре Грунов личность Шлейермахера прочно утвердила и ясно опознала свое духовное достояние. Молодой 28-летний пастор берлинской больницы Charite выдается среди круга своих блестящих товарищей своей сердечной серьезностью, зрелостью и независимостью своих нравственных оценок и, в известных отношениях, властвует над окружающим его духовным брожением. В качестве нравственного гения он владеет тем, чего часто недоставало его среде, – соединением свободной смелости жизненных суждений и отношений со строгой духовной чистотой и внутренней дисциплиной. И если иногда личные отношения и кружковые влияния увлекали его с верного пути и затемняли его обычное нравственное чутье, как это было, когда он в своих «Интимных письмах о Люцинде» взял на себя защиту морально и эстетически одинаково несостоятельного и незрелого романа Фридриха Шлегеля «Люцинда», то все же и в этих случаях объективно неверная оценка конкретных фактов искупалась глубиной и серьезностью вложенных в нее субъективных замыслов. Общая атмосфера романтического кружка, правда, наложила отпечаток на творчество Шлейермахера; сильнее всего она обнаруживается в некоторой патетической взвинченности его стиля, которая часто мешает пониманию правдивой глубины его идей и чувств. Здесь влияние среды попадало в слабое место натуры Шлейермахера. Он был в достаточной мере художественной натурой, чтобы находить сильное и красноречивое выражение для своих внутренних переживаний; но все же он не был подлинным художником и потому не мог найти истинно объективную, т. е. не риторически разукрашенную, а поэтически правдивую, гармонически спокойную форму самообнаружения. Место инстинктивной поэтической идеализации, которая ничего не искажает и, озаряя высшим светом, все же только раскрывает простую душевную правду, у него занимает искусственная риторика, которая даже при величайшем мастерстве ее у Шлейермахера остается неадекватной выражаемому ею внутреннему содержанию и возбуждает подозрение в вычурности и вымученности самого чувства. Ближайшее знакомство с личностью, судьбой и творениями Шлейермахера опровергает это подозрение. Годы романтического подъема, годы дерзостного «духовного столпотворения» – как позднее называл это движение один из его участников, Стеффенс – не сломили Шлейермахера, и он не упал с высоты, как это случилось с многими другими. Шлейермахер принадлежал к тем цельным натурам, которым, по выражению Гёте, дано высшее блаженство соединить конец своей жизни с ее началом. Как он сумел в круг новых идей внести свою детскую религиозность и среди своих светских и часто легкомысленных друзей оставаться «гернгутером высшего порядка» (как он сам себя обозначал), так же он сумел сохранить до конца жизни тот моральный и религиозный подъем, который он нашел в эту пору первой возмужалости. Когда через 6 лет, в 1802 г., блестящий дружеский кружок распался, Шлейермахер имел достаточно духовной силы и зрелости, чтобы начать собирать жатву, взращенную в эти годы. С того времени, в течение более 30 лет (Шлейермахер умер в 1834 г.), его жизнь посвящена упорной и разносторонней работе в качестве ученого, проповедника, общественного и церковного деятеля. Плоды его научной деятельности суть перевод Платона, задуманный еще вместе с Фридрихом Шлегелем, но выполненный им одним, ряд гносеологических, этических и историко-философских изысканий и двухтомное сочинение по догматике протестантской религии. Подобно Фихте, он стоял во главе духовного движения, направленного на национальное возрождение Германии после наполеоновских войн, участвовал в основании Берлинского университета и был одним из самых влиятельных вождей нового общественного мнения. Могучим словом проповедника и пером публициста он неутомимо трудился над созданием свободной национальной культуры и государственности. Мировоззрение его в эту зрелую эпоху жизни, обогащенную личным и общественным опытом, конечно, во многом отличалось от тех пламенных идей, которыми горела его юношеская душа; в его духовной эволюции есть и обычный, общечеловеческий переход от гениальной дерзости и силы юношества к более умудренной и терпимой, но и менее оригинальной широте возмужалости, есть и исторически характерное для той эпохи нарастание национально-государственного реализма из недр отрешенной личной культуры. Но позднейший берлинский профессор богословия, секретарь Академии наук, влиятельный государственный и церковный деятель сохранил всю духовную независимость и высшую гуманность, которой чаровал своих друзей юношеский автор «Речей о религии» и «Монологов». В реакционную эпоху 20-х годов он выступает со смелой оппозицией, и вся его жизнь в эту пору полна благородной и часто опасной борьбы за духовную свободу в области науки, воспитания и церкви. И Беттина фон Арним, знавшая немало выдающихся людей, близко видавшая и любившая Гёте, высказывает о Шлейермахере-старике суждение, совпадающее с общим суждением о Шлейермахере-юноше: «Я не знаю, есть ли он величайший человек (Mann) своего времени, но он несомненно есть величайшая человеческая личность (Mensch)». Шлейермахер, говорит один из его новейших биографов7, «создал не школу, а историческую эпоху». Он был как бы создан для великого дела гармонического слияния идей с действительностью, для того воплощения идеальной личной культуры в реальной общественной жизни, которое было поставлено на очередь историческим развитием Германии того времени. Именно своеобразное, присущее его личности сочетание широты и смелости духовного горизонта с живым сочувствием и сердечным пониманием всего человеческого создало из Шлейермахера такую влиятельную и плодотворную фигуру в истории немецкой духовной культуры.
III
Самое замечательное произведение Шлейермахера есть, бесспорно, его «Речи о религии», которые, несмотря на их заглавие и стиль, никогда не были произнесены, а были написаны им зимой 1798/99 гг. И по стилю, и по содержанию «Речи» явственно распадаются на две части: первые две речи, излагающие сущность религии вообще, образуют ядро всей книги; они написаны с исключительным подъемом и мастерской законченностью; напротив, последние три речи (о религиозном воспитании, об общественном начале в религии и о религиях) дают оценку реальных форм религиозной жизни с общей точки зрения, установленной в первой части; сам Шлейермахер говорил, что в них нет ничего, что не было бы уже скрыто высказано в первых двух речах; к этому нужно прибавить, что они написаны несколько более искусственным и менее гармоничным стилем; а что касается их содержания, то, объемля огромную и многообразную сферу частных явлений, они не всегда справляются со своей темой и должны быть признаны гораздо более спорными8. Мы остановимся здесь лишь на главных мыслях «Речей», выраженных в их первой, основополагающей части.
Речи обращены к «образованным людям, презирающим религию». Шлейермахер хорошо знает – это непосредственно вытекает из его понимания религии, – что никого нельзя научить религии; религия может только рождаться изнутри, а не сообщаться извне. Вместе с тем он верит, что нет человека, который был бы совершенно чужд религиозности или хотя бы задатка к ней. Этим определяется метод его религиозного наставничества: нужно путем психологического анализа чувств и настроений, присущих противникам религии, и путем логической критики признаваемых ими понятий и оценок довести их до сознания, что в них самих живет презираемое ими религиозное чувство и что их теоретические представления о религии неадекватны их непосредственному сознанию. Прежде всего из анализа явлений, подводимых под понятие религии, следует, что религия не вмещается ни в одну из признанных сфер или деятельностей духа: она не есть ни теоретическое знание, ни нравственное учение, ни искусство, ни практическая деятельность. Мы встречаем в ней элементы, присущие каждой из этих областей; но она не исчерпывается ни одним из них в отдельности и не может быть также простой механической смесью из них. В господствующей классификации отношений человека к миру, таким образом, не остается места для религии; однако борьба против нее, чувства антипатии или презрения к ней сами по себе все же свидетельствуют, что религия есть, во всяком случае, не призрак, а некоторая самобытная реальность. Так, исходя из самого факта презрения к религии, Шлейермахер заставляет противников религии признать, что их понятие о религии смутно и неопределенно и что даже отрицательное отношение к религии требует признания ее некоторым своеобразным началом человеческой жизни и обязывает отдать себе отчет в этом начале. Этот итог подводит Шлейермахера к центральному пункту его «Речей» – к психологическому описанию религиозного сознания.
Риторический характер «Речей» влечет за собой один существенный их формальный недостаток: отсутствие в них строгих, с незыблемой твердостью отчеканенных определений; определения заменены в них текучими описаниями, отмечающими в изменчивых словесных выражениях многообразные оттенки обсуждаемого понятия. Из этого, однако, не следует, что сама мысль Шлейермахера бесформенна и неопределенна; напротив, в его изложении содержатся элементы совершенно точного научного психологического анализа. Два основных момента подчеркиваются им в понятии религии: отношение к бесконечному в содержании религиозного сознания и признак чувства («чувствования», как говорит школьный язык) в психологической природе этого сознания. Первый момент по существу вряд ли может возбудить какие-либо недоумения, хотя он и навлек на Шлейермахера обвинения в пантеизме. В противоположность научному знанию и практической деятельности, которые теоретически или действенно всегда направлены на конечные вещи и соотношения между ними, «религиозное размышление есть лишь непосредственное сознание, что все конечное существует лишь в бесконечном и через него, все временное – в вечном и через него». «Искать и находить это вечное и бесконечное во всем, что живет и движется, во всяком росте и изменении, во всяком действии и страдании и иметь и знать в непосредственном чувстве саму жизнь, лишь как такое бытие в бесконечном и вечном, – вот что есть религия». Религия есть «чувство и вкус к бесконечному». Этим непосредственным сознанием и созерцанием бесконечности религия, с одной стороны, как указано, отличается от знания и практической деятельности, имеющих всегда дело с конечным; но, с другой – этим же определяется ее связь с наукой и действенностью.