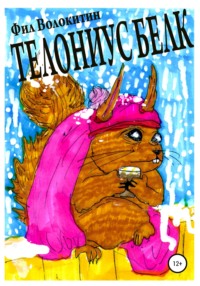Kitobni o'qish: «Телониус Белк»
Глава первая
Горжетка стоит на небольшом возвышении перед доской и злится:
– Сними головной убор.
Я вытираю кепкой пот с головы.
Какая же она страшная эта Горжетка. Возраст не определить. Такой как она, можно быть и в пятнадцать лет, а можно и в шестьдесят. Лицо не то подростка, не то бабушки. Не то злится, не то ласково обижается.
Была бы бабушкой – ещё полбеды. Но ведь Горжетке всего-то лет двадцать, не больше. И на нашем развинченном пианино она играет кое-как. Никакого туше. Никакого шквала эмоций. Всё, что бы не играла, звучит этюдом на интервал. Ой – мы – все- мат-рёёё…..
У меня есть с чем сравнивать. Я видел, как шпарил на нём однажды толстяк, интересующийся горжеткиными руками и сердцем. Клавиши под его вспотевшей рукой проваливались как кнопки на старом баяне. А эта – жалеет, словно не может инструмент, как следует, завести. Легко-легко, словно птицу какую-нибудь, гладит, касается. Может, боится?
Интересно, горжеткина вуаль считается головным убором? Если да, то причём тут я. А если нет, то чем считать её вуаль? Неужели педагогическим материалом?
Ну, уж шубу, то точно ей снять не повредит. Кто же играет в шубе, когда на дворе октябрь? А Горжетка – она оттого и Горжетка на всю жизнь, что шубу будет носить до апреля. Но как в апреле появится вдруг без шубы – так и не Горжетка она уже, а смущённая как опавший лист молодая, пионерского вида училка, озадаченная и робкая, будто перепутавшая женский туалет с мужским. И все смеются, даже учителя. Но потом привыкают.
До апреля, вроде, ещё далеко. И запах ядрёного нафалина с её шубы ещё не выветрился – бьёт в нос вплоть до четвёртого ряда, если не принюхиваться. А если принюхаться, то и до последнего долетит. Неужто она не понимает, что шуба источает нафталин как побитая молью тряпка? Вроде бы и не курит, а запах свой всё равно не чувствует – оборачивается, когда собеседник воротит от неё нос, морщится – мол, чем таким резким вдруг откуда-то повеяло. А запах, повторю, от неё. Даже я, хоть и курю, но всё всегда сажусь на шестой ряд, куда её нафталин, вроде бы не доходит – по крайней мере, с точки зрения человека курящего. Некурящим то и вовсе трендец – не скрыться, только знай себе прочихивайся.
В довершение ко всему из-под этой шубы торчит собачий хвост.
Шуба лисья, а хвост собачий.
– Образное мышление! Образное мышление! – кричит Горжетка и делает брови домиком. Потом стучит точёной указкой по моей парте, – Включай образ, Артём! Образ включай, кому говорят!
Вот уж выдумки. Я никогда не мыслю образами.
Если уж на то пошло, то мыслю я сполохами и кластерами.
Это значит – четыре действия подряд. Например, дано – чайник, чашка, сахар, ложка. Всего четыре. Чтобы продолжить надо вспомнить ещё четыре действия. Размешать, отставить в сторону, прихлебнуть, закинуть ложку подальше в раковину. И уже после этого остановиться и попытаться понять, что, собственно говоря, сделал. Если не уложился в восемь тактов, то нужно сделать что-нибудь еще. А если уж перебрал, то извините. Или заново начинать, или, как говорится «топить в неочевидном пассаже». Простите – не тактов, а действий. И не в пассаже, а в разрушениях, которые я готов причинить всем вокруг, лишь бы поскорее зачирикать неправильную последовательность предыдущих действий. Со стороны это выглядит, как будто я самый настоящий псих. Но это такая привычка. Что с ней поделаешь?
Остальные здесь, в школе – не совсем такие, как я.
А точнее – моя полная противоположность.
У этих – образное мышление, цветомузыкальный каскад в голове и прочая дремучая азбука из арсенала дошколят с пластмассовыми блок-флейтами. А я в эти сказки про образы не верю. Не верю, что у них в в голове зеленеет, стоит только утреннему будильнику взорваться нотой «ля» (что прикажете делать с обертонами от «ля», если будильник стоит как у нас дома, на постоянно трясущемся холодильнике?). И в глубине души я всегда смеюсь, когда Мямлик бурчит что-то под нос про ми бемоль стального цвета. Стального цвета, представьте себе! Да ещё и с блеском металлическим! Откуда там взяться металлическому блеску, если этот бемоль – всего лишь подножка от ми, которая по горжеткиной семафорной логике должна быть зеленой, будто бронхитные сопли.
Вы уже поняли, что по поводу Горжеткиной системы обучения у меня скепсиса хоть отбавляй. На одном образном мышлении далеко не уедешь. И ненависть к её системе подступает к горлу всякий раз, когда я слышу про ми бемоль стального цвета.
А всё оттого, что Ботинок слишком рано принялся лепить из меня музыкального супергероя. Против всех правил, разумеется. Такой мой отец.
Такие дела.
– Три, четыре, стоп.
– Посмотрите на котяаат! Посмотрите на котяааат!
Все хотят смотреть на котят. Один лишь я хочу чтобы сгорела Горжеткина шуба из чернобурки.
– Мы перебегали берега-а-а!
Ненавижу, когда мы перебегаем берега.
Мямлик тычет меня ручкой в бок. Больно.
– Посмотрите на котяааат – страшным голосом шипит он мне. Я отмахиваюсь. Есть какой-то странный ритмический зазор у этих котят, но пока ещё можно не обращать на это внимания. Я и не обращал, пока за дело не взялся Мямлик. Теперь только об этом и думаю. Опять он сбивает меня с толку. Здесь надо цепляться за вторую долю, но что делать с последним ударом тогда?
Мямлик знает все мои слабые места.
– Мыпе! Ребе! Гали! Бере! Гааа!!
Последнее он тянет долго, при этом глядит мне в глаза. Он будет тянуть, пока не добьётся успеха. И, наконец, добивается.
– Гаааа! – вдруг кричу я и начинаю топить всё в неочевидном пассаже. Превращаю предметы вокруг себя в хаос. Разбрасываю ручки и ластики. Пенал летит в сторону и ударяет в затылок лысого верзилу, которому давно рекомендуют бэйную тубу. Он чешет место удара и, не оборачиваясь, показывает мне увесистый кулак. Мучаясь со своей бэйной тубой, он знает и мою беду – его тоже заставляли артикулировать удар на вторую долю, но не объяснили, зачем это нужно. Эти удары у него в печенках сидят. Так что бить он меня не будет – даже на перемене. Я же стучу кулаком по парте и в бессильной ярости несколько раз повторяю шёпотом вслух – «Мыпе-ребе-гали-бере-гага», «Посмо-трите-нако-тятя», «Упа-пабы-ласа-бака» и всё, что только можно артикулировать естественным образом. Выделяю акцент, выделяю угловую низкую, выделяю окончание слабой доли. И главное, обрубаю все концы – так что текст, который Горжетка предлагает нам для запоминания, все её котята с перебегающими берегами, превращается для меня в непотребную околесицу.
Теперь ясно? Сами видите, как мне трудно учиться в экспериментальной спецшколе для музыкально одарённых придурков.
Ошибка Ботинка, из-за которой мне сейчас приходится страдать, в целом, не такая уж и большая ошибка. Такое и за ошибку-то считать не хочется. Я-то считаю, что Ботинок всё делал правильно. Он у меня молодец. Просто перестарался малость. Взвалил на себя неподьёмную ответственность. Разве может дятел объяснить дереву для чего в музыке двенадцать нот? Нет. Вот и всем так кажется, что не может. Он, кажется, только стучать мастак, ведь так в песне поётся? А нот у него не двенадцать, а максимум три. Точнее одна. Всё остальное «подножка» или «пощёчина», как говорят, и за ноту в последовательности не берётся.
Всё началось с того, что однажды, будучи маленьким, я изобразил Ботинку косолапого мишку под музыку так, что тот свалился со стула и заорал – Свинг!
И жизнь моя, до этого скромная, окончательно преобразилась.
С этого момента, каждый день у меня начал делиться на ровные доли, как по метроному. Мама приходит с работы, а Ботинок тренирует со мной вальсовый шаг. Чищу зубы перед сном – тот рядом, отщёлкивает долю зубной щёткой по тазику. Вверх, вниз, а потом с отскоками. А потом – вместо него я. Я чуть зубов не лишился раньше времени, но Ботинок всё не отставал. Мама сперва нахмурилась, потом хмыкнула, а потом удивилась так, что на работу на всякий случай ходить перестала – взяла декрет в самый разгар карьеры и всё! Никто бы не взял, а она взяла, потому что увидела в таких развлечениях угрозу не только моим зубам, но и всему остальному. Стала читать со мной стихи, разучивать песенки, игрушечные чаепития устраивать. Но всё напрасно. Чай я пил, как уже говорил – на размер четыре-четыре, а если сбивался, то психовал так, что только ложки летели во все стороны. Любые стихи я переиначивал по своему – типа «Упа Пабы Ласа Бака». Или «Яру! Башку! Сшила! Мишке!». Мишке! Простой размер в этих стихах, казалось бы, а сколько удовольствия. Можно шуршать, а потом вдруг бомбануть со смачной оттяжищей – Мишшшш-КЕ. Короче, никому кроме меня, этого удовольствия не понять.
Всё ещё могло закончится достаточно безобидно – понабрался бы скороговорок, может научился бы летку-енку в костюме пингвина танцевать для родителей в первом классе. Но Ботинок продолжал свою воспитательную работу. Только теперь это напоминало партизанскую войну, где главное чтобы мама ничего не заметила. Идёшь в садик – туда аллюром, а на обратном пути обязательно отрабатываешь тредольный галоп. Повторите сто раз слова «тредольный галоп» и вы их запомните. Точно также запомнил трёдольный галоп и я. Это, напоминаю вам, в два с половиной года. А когда мне стукнуло три, я уже мог внятно простучать пять четвертей по тарелке со слониками. Слоников пять, а тарелки четыре, врубаетесь? И у меня получалось. Приходится признавать, что у Ботинка была своя система. Очень наглядная, как я сейчас понимаю.
Подножки с пощёчинами – вот как она называлась. Назад – подножка, вперёд – пощёчина. Вот и всего делов. Говорят, что у нас у всех было трудное детство. Но столько пощёчин сколько получал от жизни в этом возрасте я – это просто уму непостижимо.
Я, разумеется, вовсе не гений. Напрасно на меня тратил время Ботинок.
Конечно, я всё схватывал на лету. Если вдалбливать что-то в том возрасте, в котором пребывал на тот момент я, то любая информация застынет в мозгах не хуже отпечатков ног на только что положенном асфальте. Потом рисуй по нему что хочешь. Асфальт уже положен. Асфальту всё нипочём. Вот и рисуй по нему, сколько хочешь. Потому что всё, что потом нарисуешь поверх мелком – смоется под первым же дождиком. Это только моя проблема. У тех, кто привык и не видит под рисунком асфальта, такой проблемы нет
Так что из ботинкового эксперимента ничего не получилось. Эстрадный барабанщик не может внятно объяснить пятилетнему ребёнку, для чего на седьмой ступеньке гаммы заходит солнце. Не потому что он дурак, а потому что он дятел. В чём то, смелая идея дятла удалась – я мыслю ритмически безупречно. Только вот толку от этого ноль. А удовольствия и того меньше.
Поэтому я здесь – в музыкальной школе для стропалей. Стропали – это те, кому не подходит обычная система обучения. Одним словом музыкальные гении. Мямлик, например, гений. Бэйный малый тоже своего рода гений, но, как и я, оказался здесь случайно. Перерос свою эсную басовую тубу ещё в десять лет, а почему – никому не разобраться.
Вместе с ними я набираюсь опыта. Пытаюсь, наконец, понять, почему солнце всходит на первой ступени, а заходит на последней, седьмой (или седьмой пониженной, в зависимости от септаккорда)…. Бэйному проще – на эсной тубе его солнце заходит максимум на четвёртой, а если переучится на бэйную, то на второй. Так что, в принципе, он может совсем не учиться.
Мне в этой школе для дураков, пожалуй, сложнее всех. Все учатся, а я переучиваюсь. Мажу мелками по отпечаткам в асфальте. Стараюсь, как-то, приучить их между собой не ссорится.
Иногда я беру верх и мелки с асфальтом принимаются взаимодействовать между собой. Но только до тех пор, пока снова не пойдёт дождь и всё, с таким трудом нарисованное не сотрётся.
– Даже дебил Свадебкин и тот всё понял.
Это прозвучало на весь класс.
Так всегда говорит Горжетка, когда пытается привести свою околесицу к общему условному знаменателю.
Как правило, такое происходит перед самым звонком. Без экзекуции Свадебкина ей не закончить. Как видите, её солнце тоже само по себе не заходит. И спрашивается, чем тогда она пытается мне помочь?
Кто же такой этот дебил Свадебкин? Да ведь это я и есть. «Объясняю в третий раз для дураков» – это тоже про меня. Обычно доходит только на третий раз. А на следующий день выясняется, что я опять ничего не усвоил. Поэтому и дебил. Я уже не обижаюсь. Пусть Горжетка дразнит меня, как ей хочется.
Сегодня дебил Свадебкин не понял ничего даже на третий раз. Но он, по правде сказать, особенно не старался.
– Артём Свадебкин! Подними пенал и подойди ко мне.
Это, несомненно, угроза.
«Держись» – шепчет бэйный верзила. Мямлик вытирает с глаз выступившие капельки смеха. Достаёт из кармана смехочистку и тщательно выскабливает всё, что осело на зубах. Потом напускает на себя серьёзный вид. Остальные угрюмо провожают меня взглядом, как головореза идущего на эшафот. Им всё это порядком надоело. Каждое занятие с Горжеткой заканчивается такой экзекуцией. А ведь можно было потратить это время на нечто более интересное, чем перебирать цвета, как сумасшедший светофор на оживлённом перекрёстке специально для ничего не понимающего Свадебкина.
– Здравствуй, Артём – вкрадчиво поёт Горжетка, – Скажи мне, дорогой Тёма. Ты ведь умный такой. Тебе кажется, что мы тратим зря время? Тебе кажутся глупыми песни про котят в выпускном классе? Не можешь потратить на них полчаса?
Песни про котят – ничего. Но мне действительно кажется, что эти полчаса можно потратить на что-то поинтереснее.
Она недовольно смотрит на меня в упор, но ускорить процесс появления слов в моем горле она не может. Подбадривает – «А?» «О?» и, наконец, взрывается:
– Так кажутся или нет?
– Да, кажутся, – сегодня я совершенно не готов спорить с Горжеткой.
Горжетка удовлетворённо захлопывает журнал и поправляет сползшую на ухо вуаль.
– Завтра ко мне Борис Сергеича позовёшь. С шоколадом и кофе. Да, а что, – обводит взглядом ряды она, – С шоколадом и кофе. Могу я себе позволить кофе и шоколад, раз вместо родного отца с тобой мучаюсь.
Так уж и мучается! Ботинок мой или, если угодно, Борис Сергеич Свадебкин – мировой мужик и не бросит меня никогда. Такого поди поищи ещё в наше время. Уж кто мучается со мной всю жизнь, так это он. Замучался до того, что уже и глаз на меня не поднимает. Это мне только на руку. Плохого слова про Ботинка сказать не могу, а если уж и найдётся пара таких слов, то уж точно не я их припомню. Может быть, мама вспомнит, но точно не я. А про Горжетку и говорить нечего. Не знаю, кем она себя возомнила, но конфеты Ботинок ей точно не понесёт, даже если та на коленях валяться будет.
Закавыка в том, что он не самый скучный на свете человек – мой Ботинок. Но всё-таки, когда умерла мама, жить с ним стало невыносимо скучно. Скучно стало ждать, когда он приходит домой, скучно перебалтываться с ним, когда моешь посуду, да и просто слушать, когда разговаривает – тоже скучно. Так скучно, что хоть на стенку ползи. С мамой ведь как было? Пришёл из школы домой, быстро сделал сольфеджио с добавочной хреновнёй и сиди с ней сколько хочешь, говори о чём вздумается. Ни малейшего напряга. Хочешь, мульты на Дисней-канале обсуждай. Хочешь про белок стихи рассказывай… А ещё она любила надевать мне напёрстки на все пальцы, и я фигачил по холодильнику что-то ритмически навороченное, не хуже Ботинка в его лучшие годы. И тогда она под это засыпала. И чёрт с ним, что однажды она не заснула, а умерла. Это нормально, что люди умирают. Пусть только спрашивают нас о том, в котором часу они собираются это сделать – и всё будет хорошо. Мы подготовимся.
Мама умерла так, что не оставила нам с Ботинком никаких проблем. Точнее, мы остались наедине со своими. И наши проблемы ошарашивали нас куда больше чем мамины. Вот, например, моя проблема. Что нам с ней делать?
Думаю, надо было не суетиться и хорошенько всё обдумать. Ведь я совершенно не музыкант, это ясно сразу. Мог бы пойти на степ. А хоть бы и на курсы быстрой клавиатуры. Печатал бы свои любимые четверти как пулемёт. Газету бы издавал школьную оперативно. Но Ботинок был упрям до отмороженности. Скукожился в своём швейцарском козьем свитере, поджал губы и всё равно решил сделать по своему, поперёк.
Он отправил меня в школу для музыкальных вундеркиндов, можете себе представить? Такие дела…
Ботинок всю жизнь таким был – упрямым и отмороженным. Поломал себе карьеру из-за своей упрямости. Говорят, и маму в могилу вогнал оттого. Хотя, это ещё как сказать.
По идее, барабанщик и должен быть слегка отмороженным. И здесь мой Ботинок прав. Но не до такой же степени, чтобы из-за отмороженности этой тонуть в дерьме самому и ещё, вдобавок утянуть за собой всё, что под руку попадётся!
История гласит, что на весь Ленконцерт их было лишь двое, таких отмороженных – Дятел и Козёл. Они дополняли друг друга как две половинки ореха. Скрепляли любой оркестровый бардак как цемент, держали внешнюю оболочку, как косточка держит шубку от сливы. Иногда к ним присоединялись другие животные, которые были не менее хороши, но то была уже не косточка, а слива, которую можно съесть – а косточка оставалась. Я видел, как они играли вдвоём в каких-то дремучих семидесятых – вваливали как на «Формуле 1» и не особенно друг в дружку вслушивались. Один на гнутой дудке, второй на кастрюлях, напоминающих барабан. Хорошо было. Отмороженно. Естественно и резко как сошедший с ума водопад. И Ленконцерт тут был не причём. Это была их личная, идущая с ним вразрез инициатива.
Но в какой-то момент Козёл свихнулся и захотел всё изменить – в угоду эстрадному жанру. Сам стал играть в костюме хоккеиста, а других заставлял переодеваться, кто во что горазд. Эстрадный жанр, если не ошибаюсь, ведь так? Ещё он сменил альт-саксофон на тенор – говорят, чтобы поменьше было той самой альтовой картавости, а для тех, кто знал об особенностях истерической манеры Козла, выглядело это как непростительный компромисс. Тенор – может это и хорошо, но только на первый взгляд. Пока не начнёшь в него дуть, он кажется таким стройным и одновременно уродливым, как хирургический инструмент, – жаловался Ботинок. Для музыканта это очень круто. Кажется, что когда он начнет играть, то будет еще громче, еще ядрёнее, чем небольшой, в полроста в собранном состоянии альт-саксофон. А на деле тенор принимается вдруг мяучить как кот, распускать сопельки и и проситься на ручки. Альт же, несмотря на свой малый рост, совершенно другой – жёсткий и свирепый. Но это на взгляд профессионала. А для нас дураков, так тенор просто размером побольше, и всё. Но выглядит красивее – вот и Козёл вслед за ним потянулся. Пошёл врост, так сказать. Но это уже не «Формула1» была, это был музыкальный ресторан с разлюбезными официантами. И для того, чтобы в этом ресторане играть, всем требовалось одеваться как официанты. Всем – кроме глупого Дятла. Дятел должен был играть в подгузниках, с нарисованными веснушками, еще с какой-то белибердой на лице, чтобы показать, что он не большой мастер, а какая нибудь фальшивая Золушка с тыквой наперевес. Всё потому что у него глупое лицо – и это действительно так. Глупое и немного наивное лицо у моего Ботинка. А у Козла лицо – решительное и волевое. Контраст. Хотя я считаю, что человека с решительным лицом козлом задаром не назовут. Но это только я так считаю.
Говорят, Дятел тогда извинился, хлопнул дверью и вышел за дверь. И с тех пор его глупое наивное лицо в Ленконцерте не появлялось . И вместе с Козлом его больше не видели никогда. Разве что по личным вопросам созванивались. Такой вот вредный был мой батя, Ботинок, в народе Борис Сергеевич Свадебкин, а по джазовой фене – Дятел.
А что я? Я тоже Свадебкин. Я тоже могу извиниться и выйти. И даже попытку сделаю специально для вас. Жалкую и неудачную, как и всё то, что я делаю, стараясь быть похожим на родного отца.
Сейчас понимаю, какую силу воли надо иметь, чтобы взять и уйти насовсем. На такое способен только настоящий джазовый дятел.
Только дотронулся до ручки двери, как за спиной донеслось жалобное:
– Свадебкин! Не уходи.
Плачущим голосом запела Горжетка. Не к добру.
Я покорно вернулся к доске. На Горжеткином лице – торжествующая улыбка.
– Если умный – разреши аккорд.
Вот, наконец, и окончание урока. Теперь, если директор потребует отчёта, что здесь произошло за сорок минут – все скажут, что мы аккорды в поте лица разрешали.
Я, в принципе, готов разрешить любой аккорд, но Горжетка ядовито добавляет:
– Всем внимание! Сейчас Свадебкин скажет, куда улетят четыре фонарика, прежде чем станут красными!
Не туда! Совсем не туда!
Мел раскрошился в моей руке. Раздосадованный, я стремительно лечу на своё место в шестом ряду. Там я уже медленно собираю вещи – обиделся. Раз – тетрадь в пластиковой обложке, два – остро заточенный карандаш. Три – малиновый фломастер для важных пометок. И на четыре надо громко щёлкнуть портфельным замком, а потом куда нибудь провалиться, не повторяя прогрессию.
ПОСТАРАТЬСЯ не повторять прогрессию – вот что я имею в виду.
Только не надо беситься. Горжетка просто нечестно играет, вот и всё. Запрещённый, нечестный приём. Я ни за что не стану принимать такие правила игры. Пусть оставит свои фонарики для первоклашек с блокфлейтами. Оттого я и держусь из последних сил, как стойкий оловянный солдатик, потому что знаю что шансов на победу у меня ноль.
– И что?
Оказывается, Горжетка всё ещё ждёт ответа.
– Извините. – не двигаясь с места, произошу я, – Это просто четыре черных мушки, а не фонарики. Вы правы только в одном. Как только их просчитаю – мушки улетят. Но красными они не станут, ни за что на свете.
Ну и пусть шансов ноль. Зато я кажусь себе настоящим героем, когда говорю таким тоном с преподавателем.
Любой другой бы на её месте просто вышвырнул меня за дверь.
Но если в аду есть преподаватели по сольфеджио, то во главе них безусловно стоит такая же Горжетка – Надежда Николаевна Голикова. Её методы гораздо более изощрённые, чем адское пламя.
Сейчас она разевает рот, как только что выловленная щука, а может быть даже хочет меня укусить
– То есть… ты хочешь… сказать…
От выступивших слёз она никак не может произнести то, что хочу сказать я и оттого судорожно глотает.
Спешу к ней на помощь. Настоящие герои всегда так делают, ведь так?
– Да, я хочу сказать, что когда прилетят новые четыре мушки, они будут точно такого же чёрного цвета.
Да, герой есть герой. Но на всякого героя находится подлый, совершенно не типичный для героев приёмчик, благодаря которому герои никогда не становятся победителями.
Горжетка делает усталые глаза и, украдкой обернувшись на зал, вертит пальцем вокруг своего правого уха.
Актёрский талант у Горжетки, несомненно, есть. Все смеются надо мной, практически угорают. А я ухожу. Не оборачиваюсь. Но внутри себя просто таю со стыда от этого запанибратского хохота.
– Не могу я больше ходить в эту школу – сказал я Ботинку, виновато потупившись. – Всё так же, как и всегда.
– Снова обидно? – деловито интересуется Ботинок
Нет, пожалуй, в этот раз не обидно, а… непонятно.
История на этот раз произошла действительно странная, а главное – неясно, то ли я ушёл, то ли меня прогнали.
Наверняка всё же прогнали. Не стали дожидаться, пока я провалю годовой тест. Не стали ждать пока я выйду к фортепиано. Не стали выяснять, что я могу играть на любой лад, но вот обыграть этот лад – не могу. У этого дохлого школьного фортепиано я, конечно, разыграю «В лесу родилась елочка». От отчаяния, может, и на место к тонике всё это дело верну. Но зачем это всё, если в голове моей будет стучать барабан. Такой, который всегда там стучит. Чтобы барабан не смолкал и не сбился, я обязан ему помогать. Не помочь ему – это всё равно, что перекрыть себе пульс и посмотреть, что из этого выйдет. Так что приходится помогать. И я буду это делать при любом раскладе. Тогда от каждой ни в чём не повинной ноты я вырулю в такие дебри, что весь класс будет умолять меня сдаться и не проверять на практике свои знания никогда.
Господи, там ведь всего только и всего требуется, что сыграть про ёлку. Сто раз объясняли мне это, пронзительно глядя прямо в глаза. А я вместо того, чтобы играть нормально, всякий раз обезьянничал. Так им казалось. В любом случае, диалога не произошло. Те, вроде и пытались меня понять, да не поняли.
И вот, Ботинок! Он смотрит на меня понимающе и непонимающе одновременно. В глазах его детское ожидание чуда. А вдруг всё обойдётся? Или рассосётся само собой. Не зря же он со мной мучается. Типа, под моими руками сейчас вырастет гигантская репа, или ещё чего нибудь. Может, я сам все решу. Но он знает, что я не решу ничего. Получится так же, как и со всеми предыдущими школами.
Приведя меня этой бесснежной зимой к Горжетке, он, втихаря, рассчитал, что от её экспериментального метода будет какой-то толк. Распространялся этот план не столько на меня, сколько на Горжетку. Мол, пусть посмотрит на меня и разберётся, откуда начинать танцевать. Если вообще хоть что-то могло вытанцовываться.
Но оказалось, что Горжетка танцевать может только с нуля. И это помогало ей не обделаться перед опытными ребятами.
По её мнению – главное понять музыку через образ. И пока не поймешь, крути вокруг разноцветные фонарики, выдумывай хитрые пазлы из яркого конфетти. А её задача проста – стой себе как семафор, да командуй.
Я проучился там месяца два. Нажил врага в лице Мямлика и приобрёл пару сочувствующих, вроде того эсного парня, который хочет стать бэйным. С эсным-то я, может, и сошёлся как дикобраз с дикобразом, но с Мямликом не сойдусь никогда. А эсного и впрямь жалко. Трагическая судьба у него. Вся жизнь укладывается один сплошной марш. Всё тот же барабан в голове, что и у меня… Этот барабан требует от парня летать от каждой ноты в кварту в размере два на два и не забивать себе голову другими размерами. Эсный-то у него в голове уже приноровился. А вот бэйный пока ещё нет.
Ботинок в курсе про эсного парня, поэтому мне всего и осталось, что про Мямлика ему дорассказать. А потом предложить вместе подумать, что делать с Горжеткой.
– Может быть, и вправду – с нуля, – спросил тогда загнаный в угол Ботинок почти просительно.
Вот я и рассказал ему о том, почему чёрные мушки никогда не станут фонариками.
Это было несложно. У Ботинка высшее консерваторское образование. Такое же, к слову сказать, как у Горжетки.
– Пошли, – твёрдо сказал Ботинок, надевая свой лучший костюм и ботинки с литыми галошами вместо подошв – Должен же ты своё образование получить. Иначе не жизнь будет, а задница.
И привёл меня к Козлу, с которым расссорился давным-давно.
Козёл был похож на капиталиста из «Незнайки на Луне» – малиновый халат, ледяные глаза, потусторонняя дьявольская бородка. Вместо рукопожатия он дал мне облобызать перстень, но сделал это таким макаром, чтобы я выбрал сам, какой из них достоин облобызания! Вот так Ленконцерт! Разумеется, я ничего выбирать не стал, и после небольшого раздумья укусил его в запястье, стараясь, если не прокусить вену, то хотя бы сделать так, чтобы он никогда больше не играл.
Тогда Козёл брезгливо отнял у меня свою руку. Подёргал ей в воздухе так, чтобы снять боль и примиряюще сообщил:
– А я вовсе и не этим играю. Промахнулся ты малость, старик… Играть надо сердцем.
С этой небольшой пошлости начался мой первый урок под его руководством.
Мне вручили какой-то потёртый, замызганый альт-саксофон, валяющийся в углу на вечном расслабоне. Правильно, ведь Козёл теперь играет только на теноре. Но по мне так пусть хоть баритон меня забодай – с инструментами нельзя обращаться таким образом. Они умирают и не отвечают.
Бедный, глупый облупившийся саксофон! – подумал я задумчиво. Из раструба торчала расчёска. Шею от саксофона Козёл достал из коробочки с разнокалиберными пуговицами. Уже несколько лет на саксофоновой шее штопали носки. А мундштук он выудил из другой коробочки, на этот раз с искуственным перламутром.
– Играй, – радостно сказал Козёл, – шпиляй. Выматывай мне нервы.
Я поднатужился, вышел на писк, потом к нему добавился гук, после чего Козёл злорадно расхохотался.
Теперь он прятался в глубине эркера и поливал цветы. Я же пытался извлечь из инструмента хоть что-нибудь, кроме жалкого гука.
Каркать вроде и получалось, но как то сдавленно. Но скорее, всё-таки, гукать. Перед тем, как спрятаться, Козёл сказал – хоть мяукай, хоть каркай, но звук мне издай. Видимо это был не тот звук – вот Козёл на него и не откликался.
Я начал потихоньку отвлекаться на зеркало, думая, что с саксофоном я выгляжу неплохо. Одновременно с этим оглядывал небогатые книжные полки Козла и вертел на языке те имена, которые.туда сами напрашивались. Си-мо-на-синь-ё-ре. Правильные ребята эти итальянцы. Вот и имена их читаются синкопированными тройками. Не то, что у меня, громоздкое, абсолютно никакими тактами не просчитывающееся имя – Свадебкин Артемий Борисович.
Гук! Гук!
Одна из книг на Козловых полках называется «Советский Джаз». Гук! Её нельзя не заметить – книга наполовину выдвинута из рядов и бросается в глаза при входе в комнату. К тому же, я её хорошо знаю. Раньше у нас стояла такая же. И это была самая вонючая книга, которую я знал.
Книга красовалась у нас на полке точно так, как и здесь, будучи выдвинутой наполовину, для привлечения внимания. А во время переезда Ботинок открыл её, грустно вдохнул мерзкий, вонючий клей, не дававший книге развалиться и заявил, что кое-что в этой жизни сделать он позабыл. А потом взял да порвал фолиант на две части. Зашвырнул прямо из окошка в проезжающий мимо мусорный бак. И добавил, что точность удара – незаменимое качество джазового барабанщика. После этого у нас началась другая жизнь – с отдельным выходом в туалет и без бесконечного мытья коридора по очереди. Просто пылесосишь минут пятнадцать и всё. Совсем не то, что было у нас раньше, в коммуналке с изразцовыми печками.
Душераздирающе гукаю. Поглядываю на «Советский Джаз» и вспоминаю, как было раньше.
Интересно, что мешает Козлу съехать из своего коммунального дна? Ведь все музыканты из джазовой филармонии богатые. Теперь и у Ботинка есть, к примеру, машина-седан, а квартира состоит из трёх комнат. Одна моя, вторая Ботинкова. Третья навечно мамина. Но, несмотря на эстрадный жанр, у Козла—до сих пор никакой отдельной квартиры нет. Зато рояль есть, да больные цветы в порушеном эркере.
Коммуналку эту уже не расселить. А казалось бы можно – крутое название улицы «Большая Фурштадтская», вид из окна, эркер, немецкое консульство напротив, парк… Всё из-за того, что за стенкой вредный циклоп устроил себе гнездо, и не хочет вылезать из пещеры? А может и сам Козёл привык. «На том и спелись Козёл и Циклоп, что живут в одной коммуналке», – ведь недаром смеялся однажды Ботинок, пересказывая мне «Советский Джаз».