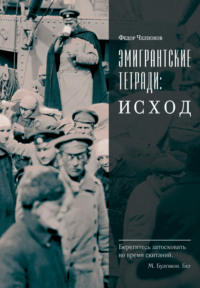Kitobni o'qish: «Эмигрантские тетради: Исход», sahifa 3
А Борис «большой» ухаживал со стариком Шамшиным за гречанками; [они] потягивали в городских ресторанах за роскошными завтраками шипучку и, шепчась между собой, устраивали свои денежные и дорожные дела. Но Борис не ограничился ухаживанием за гречанками, всем было очевидно, что он сильно конкурировал с молодым Шамшиным около певицы, не помню ее фамилии, дамы скорей противной, чем интересной, вывезенной Шамшиным из Одессы. Это зрелище какого-то менаж а труа12 было странно для меня, знавшего Бориса скромным и скорей забитым в присутствии его Аполинарии Алексеевны, оставшейся в Ялте, и судьба которой для него была такой же загадкой, как и ваша судьба для меня.
Вообще я не узнавал этого милого человека. Он проявился в беде в виде крайнего эгоиста, человека, желающего жить лишь в свое удовольствие и забросившего все свои старые привязанности. Другие Швецовы были одного со мной мнения и удивлялись на невероятное превращение старшего брата. А жить весело он мог, так как компанией «Шамшин – Швецов» только что был основан экспортно-импортный банк, деньги которого им удалось удачно вытащить из Одессы, и ими был набит целый большой саквояж их доверенного В. А. Смирнова. И так эта компания, веселясь, устраивалась в тиши, и в один прекрасный день открылось, что они в числе наших спутников нашли богатейшего английского жида, который сумел добыть места в Афинском поезде, и в день окончания карантина Б. Швецов, жид, Шамшин-отец и два брата Крестовниковых с женами и детьми покидают нас, а Швецовы младшие, Смирнов и Анпенов отправляются дня через три-четыре в другой партии. И так начинался разъезд, а у нас ничего еще не определилось. Уезжая, Швецов и Крестовникова, очень милый человек, обещали принять все меры для поисков вас в Афинах. Но ожидание мои не оправдались: я не получил от них ни в Салониках, ни в Белграде ни строчки.
Тем временем Михаил Васильевич познакомился с сербским консулом, оказавшемся очень милым человеком, подтвердившим большие симпатии сербов к России и русским, и высказал уверенность, что русские встретят там самый серьезный прием. Одновременно состоялось знакомство с представителем сербской военной миссии пуковником13 Стаевичем, который пригласил к себе на вечерний чай группу русских. На самом же деле сербы народ простой и воинственный, никаких европейских штук не признают и не понимают. Этот пуковник, милейший человек, долго жил в России, сильно полюбил ее и, сочувствуя русским в беде, позвал их в свою семью, радушно поил вином и чаем, угощал пирожками и сладостями, приготовленными ручками его милых дочек. Вечер прошел чрезвычайно приятно. Я там не был, так как никакой официальности не люблю и на раут ехать не имел охоты в силу моего подавленного духа.
Туда на присланных автомобилях отправилась группа, собиравшаяся в Сербию, в том числе некий Щепетовский, еврей или русский, так это и не выяснилось, но «Хлестаков» определенный. Он пристроился при выезде из Одессы около богатого фабриканта Сапожкова и милейшего гражданского генерала Ивана Федоровича Юницкого, пропитанного юмором и насыщенного неисчислимым количеством интереснейших и смешнейших анекдотов. Эта троица всегда была неразлучна. Щепетовский помог Сапожкову и Юницкому выбраться из Одессы, почему плотно притерся к ним и, несмотря на то что они прекрасно знали, что он выскочил из Одессы лишь с 60-ю руб., в присутствии их ежедневно рос в своем богатстве и ученых степенях. Таким образом он добрался до Салоник уже магистром химии, доктором медицины, обладателем золотых рудников, московским домовладельцем и очень крупным обладателем громадных имений и в конце концов хозяином изумительной виллы где-то во Франции. Этот кавалер вырядился в смокинг и тоже отправился к Стаевичу.
Там были и генерал Леонтович, и Дурново, и сенатор Смольянинов, пихавший каждому в нос, что он сенатор. Свое гофмейстерское звание он выказывал меньше, так как это звание придворное, а двор-то уж больше не существует. Он, маленький, горбатый, с большой бородой на большой голове, сделался теперь нашим сожителем, оказался милым человеком, но всегда служил темой потешных разговоров по случаю его начальнического тона, генеральских приемов, курьезнейшего хвастовства в очень серьезной форме по поводу происхождения его действительно красивой жены, оставшейся в Одессе: она из рода Годуновых, который по бывшему съезду монархистов был там признан как единственный имеющий право претендовать на русский престол. Он страшно деятелен, невероятно настойчив, но из рамок отъявленного чиновника не выходит. Он злится на людей, которые, по его мнению, не работают теперь на благо России (вероятно, в это время он думает о своем престоле). Он грозит им, что, когда он опять будет у власти, а это несомненно, он будет мстить им всеми средствами, какие предоставит ему власть.
К нему еще много раз придется возвращаться, а пока наша компания отправилась пить чай к Стаевичу, где, можно сказать, окончательно выяснилось, что мы едем в Белград. Выяснилось, что на днях военная миссия возвращается туда, для этого из Сербии будет прислан вагон, что у пуковника, оказывается, 14 свободных мест и что он согласен предоставить их русским и взять их под свое покровительство.
Вернувшись, стали соображать кто поедет – в первую голову оказался генерал Дурново, чрезвычайно обделистый, бравый, сухой генерал с усами на моложавом лице, при нем супруга, еще красивая дама, две очень молоденькие милые дочки и сын 17 лет, еще глупый, растущий, как громадный щенок, нескладный, добрый молодой человек. Оборотистый генерал обладал багажом в 35 мест, причем большинство из них были сундуки, требовавшие шестерых здоровенных сербских солдат, тюки с перинами, подушки и т. д. (грешный я человек, пользовался их двумя тюфячками, в то время, когда мадам Дурново спала на досках «Капуртала»). Сей генерал доблестный во время войны был где-то начальником кадетского корпуса. Он так устроил свои отношения к Стаевичу, что обеспечил себя, и своих, и свой багаж квартирой у пуковника в Белграде. Мы потом были у Стаевича и видели последствия предприимчивости генерала. Маленькая квартира была совершенно реквизирована под генерала, но это продолжалось недолго, видно, генерал сам догадался, что жить так невозможно и, воспользовавшись сербскими симпатиями, сумел забраться в очень малую, но бесплатную квартиру какого-то военного, находившегося в отъезде.
За Дурново следовал генерал-лейтенант Леонтович, господин среднего роста с легкой полнотой и не совсем ясной репутацией по части его деятельности в Одессе, но надменно бросаемые взгляды его черных, как уголь, глаз, важно закинутая коротко остриженная голова с усами на круглом полноватом лице даже не допускали мысли о возможности критики столь высокопоставленной особы. На войне он командовал значительной армией где-то в Добрудже, раньше принимал участие в других частях громадного фронта, а еще раньше был военным агентом в других частях громадного фронта, а еще раньше был военным агентом в Румынии и Болгарии. Он был хорошо знаком с Сербией, имел большое знакомство в Сербской армией и отправлялся туда с видом победителя, зная наперед, что встретит там отличный прием. Важность его доходила иногда до смешной глупости. В каком-то неважном разговоре Михаил Васильевич обратился к нему, назвав «генералом». Возможно, что в интонации голоса Михаила Васильевича мелькнула маленькая доза иронии, а может быть, этого и не было, а самолюбивый генерал сам изобрел ее, но генерал так обиделся, что потом заявил всем, что с Челноковым не говорит, что такого мужлана знать не желает, и когда главный врач лагеря, узнав, что Михаил Васильевич – командор ордена Почетного легиона и московский Городской Голова, захотел оказать любезность ему и такому важному генералу, пригласив их к себе, чтобы предложить отдельное удобное помещение, то генерал отказался идти вместе, а пошел отдельно и воспользовался предложением. Михаил Васильевич, однако, предложение не принял и от нашей сжившейся компании не отбился.
К отъезжающим в Сербию причислили нас двоих и Владимира Николаевича Смольянинова – сенатора и гофмейстера двора Его Императорского Величества, проживавшего в отдельной комнате особого барака. Но он забега́л в «буржуйный» барак, зная, что пока что с высокими чинами теперь далеко не уедешь, а в буржуйном бараке и сведений, и возможностей больше, чем [где-]либо. Он сближался со всеми, особенно с Михаилом Васильевичем, с которым был давно знаком еще в Москве, встречаясь у Веденисовых, где чувствовал себя сильно влюбленным в Ольгу Ивановну, сестру Петра Ивановича. По словам его, он собирался жениться, но что поделаешь, когда мамаше нравишься, а дочке нет. Так этот счастливый брак и не состоялся.
Отправлялись с нами Сапожков, Юницкий и Щепетовский, прозванный Радио, так как он сообщал всегда самые последние и обычно невероятные новости, оказывавшиеся всегда полнейшим враньем. Такая-то группа намечалась для отъезда с сербской миссией и под ее покровительством.
В Сербию собиралась еще группа Охотникова, но она была довольно многочисленна, состоя из Михаила Михайловича Охотникова с женой, урожденной Потапенко, дочерью писателя, и двух дочерей десяти и двенадцати лет, Владимира Дмитриевича Пенинского, гардемарина Сергея Ивановича Москвина и барона Врангеля14 – безукоризненного барона, с сухим лицом, острым носом, изумительным петроградским наречием и немецкой ориентацией. Когда его спросили, чей баронский род самый древний в прибалтийском крае, он без осечки заявил, что он представитель самой древней фамилии. Ехал с ними еще молодой человек Экерсдорф. Заговорив о бароне, я вспомнил, что, живя в салоникском бараке, мы уподобляли себя бывшим людям горьковского «дна», а за «барона» у нас был Б. Швецов, иногда, в виде шутки, недурно входивший в эту роль.
Итак, группа Охотникова не могла войти в состав группы полковника Стаевича за отсутствием мест, а потому должна была ехать отдельно. Эта группа догнала нас в Нише15, откуда мы, уж не расставаясь, совершали наш путь. Поездка в Сербию была решена, но день отъезда еще не был назначен. Тем временем компания «Шамшин – Швецов» покинула нас, и в бараке нашем стало пусто и неприветливо, да еще какой-то офицерик, кажется летчик, втесался ни к селу ни к городу в нашу компанию. Держал он себя скромно, отличался от жителей барака лишь тем, что спал всегда совершенно голым и возвращался иногда вечером в нетрезвом виде, жалуясь постоянно, что, несмотря на свои изумительные таланты, никак не может справиться с алкоголизмом, который причиняет ему много бед. Такая-то беда с ним и случилась: в другом бараке его здорово напоили, он устроил грандиозный скандал, по дороге домой с кем-то подрался и, наконец добравшись домой, тихонько стал укладываться спать, еле справляясь с громадным одеялом, только что подаренным ему и другим неимущим Русским Обществом Американского Красного Креста. Это занятие он сопровождал то бурчаньем чего-то под нос, то икотой, то, наконец, рвотой, что, впрочем, случилось у нас уж не в первый раз, так как такой же случай был с Б. Швецовым, но об этом не буду распространяться.
Случай с офицером привлек к нам наутро в барак французского офицера, бывшего учителя французского языка в Феодосии и плохо говорившего по-русски. Этот герой орал, кричал, махал своим стеком по направлению всего барака, вел себя, пожалуй, не лучше несчастного алкоголика, но, конечно, в совершенно трезвом виде. Поведение этого нашего надсмотрщика было так возмутительно, что весь барак притих, а я, лежа в кровати, трясся от злости, и, кажется, продлись эта сцена еще немного, по адресу этого надсмотрщика полетели бы подушки и сапоги, но, на счастье, в это время проснулся виновник этого скандала, еще не совсем протрезвленный, и, стыдясь своей наготы, он не мог сообразить, в чем дело. Наконец, собравшись с мыслями, он медленно начал облачаться, потом долго умываться и, одевшись тщательно, отправился с офицером к старшему врачу. Какая постигла его судьба – не знаю, но впечатление этого происшествия было так отвратительно, что мы решили перебраться в другой барак, что тут же и осуществили под водительством А.М. Чудакова.
Новый барак оказался поменьше нашего первого, а потому мы его и заполнили, присоединившись к жившим в нем жильцам. Между ними оказался тот моряк, который дал знать англичанам о положении «Грегора». Это был капитан 1-го ранга Шишмарев с женой и дочерью. Он был очень милый человек лет 50-ти с расчесанной надвое маленькой бородой, с серединным пробором седых волос на голове, в пенсне, с немного выдавшимися вперед зубами и сильным басом. Как моряк он объездил весь мир, видал множество интересного. Не обладая большим умом, он в своих рассказах при исключительной болтливости доводил слушателей до отчаяния. Какой-либо пустой вопрос к нему подвергал вас опасности сделаться его слушателем на час и два. В нашем положении такой господин был, пожалуй, полезен: он не давал задумываться и, утомив вас своими жестами, басом, вытаращенными глазами, давал возможность проспать потом лишний час. К нему у меня сохранилось доброе чувство как за то, что выручил нас в Одессе, так и за то, что в нем не было ничего напыщенного. Это был тип русского хорошего моряка. Где он теперь? Уже в Салониках ему приходилось продавать украшения жены, хотя в то же время мы видали его в дорогой кофейне с семьей за чашкой кофе с дорогими пирожками.
В числе наших спутников была и другая семья моряков. Это был небольшой, русый, бритый, с торчащими усами и носом на красном лице адмирал и его сын – высокий, довольно красивый, с бородкой, лейтенант. Этот адмирал должен был принять пароход «Грегор» после его ремонта в Константинополе как капитан, а сын должен был быть его помощником. «Грегор» предполагалось отправить за чаями Швецова во Владивосток, где было их 10 000 000 фунтов. Пароход был заарендован компанией «Шамшин, Швецов и Коломейцев» на 3 года за 3 000 000 руб. с их ремонтом, определявшимся тысяч в 200, с их топливом, командой и т. д. Одесское происшествие перевернули это предположение, и адмирал с семьей попал на мель. Он, кажется, предъявил какие-то требование к компании, хотя при таинственности поведения этой публики мы не узнали ничего, но адмирал не унывал. Было слышно, что он с сыном определился в какое-то кафе: отец – играть на виолончеле, а сын на скрипке, причем заработок определяли в довольно приличную сумму.
Начав говорить о бедном адмирале, нельзя не вспомнить о сомнительной личности господина Коломейцева. Это был молодой человек, высокий, стройный, довольно красивый, но с какой-то бабьей улыбкой. Одет он был великолепно, особенно бросались в глаза чудесные желтые сапоги из тонкой кожи на шнуровке, почти до колен. Он держал себя как-то изнеженно, говорил красивым тенором, и по его наружности было трудно угадать, что это делец последней формации. Б. Швецов, как видно, познакомился с ним в Киеве, где зародился экспортно-импортный банк. С приходом в Киев петлюровцев, а затем большевиков положение банка стало опасно, почему пришлось перебираться в Одессу. Банковские капиталы были вывезены шамшинской певицей, за что компания «Шамшин – Швецов» ее особенно ублажала. Эта дама сумела добыть себе паспорт на имя портнихи и, приняв пролетарский вид, благополучно прошмыгнула с громадными деньгами в Одессу, где вскоре банк открыл свои действия. Уже в Киеве Коломейцев имел какое-то отношение к банку, а в Одессе он явился уже компаньоном Швецова по аренде «Грегора».
Нужно иметь в виду, что когда я говорю о компании «Шамшин – Швецов», то говорю о сыне. Отец в этих делах участия не принимал, а вертелся около них от нечего делать и выказывал прямо какое-то обожание по отношению к Б. Швецову. Личность ли Швецова или его колоссальное состояние вызывали это обожание, до сих пор неясно, могу сказать одно, что оба Шамшина и певица облепили его, как мухи, а Борис, довольный их ухаживанием, не выходил из их компании. Коломейцев притерся к ней и, надо думать, устраивал тут свои дела, о которых за незнанием судить не берусь, а постараюсь припомнить происшествие, обнаружившееся на «Капуртале» после пересадки с «Грегора».
Началось это еще на «Грегоре», где было обнаружено, что на пароходе нет ни фунта провизии. Сейчас же была выбрана комиссия, казначеем которой сделали Н. А. Михайлова, он открыл сбор денег и мигом было собрано больше 20 000 руб. Предполагалось с этими деньгами послать кого-нибудь на берег купить хлеба, консервов и т. д., но выполнить эту задачу было очень трудно, так как в городе все было уж закрыто: всякий старался подальше запрятать свои товары, да и с какими-либо свертками было небезопасно показываться на улицах. Однако на это рискованное предприятие вызвалась наша милейшая, но отчаянная, Мария Петровна Мешкова, бывшая в течение шести лет в сожительстве с молодым Шамшиным, но почему-то отставленная им. Попала она на «Грегор» потому, что Шамшин обманул ее, сказав, что певица с ним не едет – и вот обе соперницы оказались на одном пароходе. Позиция весьма двусмысленная, а для наблюдения интересная. Мария Петровна ускакала на берег на первой попавшейся лодке, купила разной провизии, вина, водки, закусок, сладостей, консервов и задумала переночевать в городе у А. А. Швецова, с которым была очень дружна. Покупки были с кем-то отправлены на пароход, куда прибыли благополучно ночью и так, что этого никто не видел. Каково же было удивление Марии Петровны, когда, вернувшись на пароход и зайдя в комнату Коломейцева, застала у него целую компанию, которая уписывала ее покупки и угощала ее вином ее [соперницу]. Истратить удалось ей всего тысячи две. Когда Мария Петровна подняла шум по этому поводу, то Коломейцев вернул часть консервов, сказав, что, когда провизию вносили на пароход, сверток развязался и часть провизии упала в море. Словом, мы с Михаилом Васильевичем получили на нашу долю 4 банки консервированного перцу, обошедшегося нам в 100 руб., а компания Коломейцева потягивала винцо, которого нам и понюхать не пришлось.
Эта история осветила личность Коломейцева. Борис молчал и только ёжился, но дальше стали открываться другие дела, покрупней. Кампанию начал Щепетовский криком и гамом на всю «Капурталу», что компания парохода «Грегор» ограбила его, взяв с него 10 000 руб. за вывоз из Одессы, а пароход оказался недвижимым, что это не только грабеж, но и обман, от которого пострадало много пассажиров. Унять Щепетовского было невозможно. Смирнов, старик Шамшин и другие всячески пытались уговорить его, но шум разрастался, положение Швецова было отвратительно, так как он считался главным хозяином «Грегора». Наконец Щепетовскому после длинной торговли деньги вернули. Вероятно, эти деньги принадлежали Сапожкову. Таким образом оказалось, что Щепетовский кричал не напрасно. Следом за ним выяснилось, что за каких-то несчастных офицеров одна сомнительная дама, наша спутница, уплатила много тысяч, чтобы взяли их на пароход, а в довершение всего выяснилось, что богатый английский еврей заплатил 100 000 руб.
Для Бориса эти открытия были равносильны разорвавшейся бомбе. Он пришел к нам с Михаилом Васильевичем и сказал, что рад бросить свои 200 000, что у Коломейцева на «Грегоре» оказалась целая организация, строившая свое благополучие на горе и несчастье людей. Однако Борис связал себя договором по аренде «Грегора» с этим господином, и интересно чем кончится это предпрятие и во сколько оно обойдется Борису. Неизвестно, какое отношение к этой «панаме» имел молодой Шамшин. Он остался в стороне, а грязь валилась на одного Бориса.
Благодаря А. М. Чудакову мы перебрались в новый барак. Чудакова знала вся Москва; благодаря его женитьбе на Гарелиной он управлял ее громадным состоянием, был общественным деятелем и во время войны сильно работал по приему и распределению раненых. Он завел громадные мастерские по ремонту казенного имущества, превращая совершенно истрепанную обувь и одежду в новые вещи, и вообще во время войны стал очень видным человеком. Благодаря своим делам он был в постоянных сношениях с Городской управой, где и сблизился с Михаилом Васильевичем. Теперь судьба соединила их в Одессе и, благодаря его категорическому настоянию, мы и выбрались из нее на пароход «Грегор». Фамилия его несколько отвечает его характеру. Выпроводив нас на «Грегор», он сам явился туда не со всеми, а как-то отдельно со своим «лича́рдой»16 Ванюшей, как потом звали его мы, или короткое, резкое – Иван, как звал его хозяин. Со всей компанией был он в хороших отношениях, но держался от всех отдельно, узжал в город всегда один, обедал один, в наших чаях участия не принимал, а если кто-нибудь был принужден перехватить у него денег, то при первом случае и в довольно резкой форме он их требовал обратно. Он очень любил командовать, хотя над нами мог делать это только в шуточной форме.
Во избежание возможного в бараке воровства мы учредили между собой дежурство, которое исполнялось плохо, так как по утрам все стремились в город. Заметив, что старик Шамшин и Борис Швецов исчезали особенно усердно, Чудаков, вставая утром, когда все еще находились в кроватях или в одном белье, самым резким и повелительным тоном кричал: «Александр Иванович, вы сегодня дежурный». Александр Иванович с всклоченной бородой, взъерошенными волосами на голове, в пенсне, в одной длинной рубахе, без кальсон, смущенно оборачивался в сторону Чудакова и довольно сердитым тоном отвечал, что лица свыше шестидесяти лет от несения таких обязанностей всюду освобождаются, а кроме того, ему сегодня необходимо нужно ехать с Борисом в город. Чудаков начинал самым резким образом кричать на вес барак, что это безобразие, что если Александр Иванович не желает, то это его дело, но тогда все найдут причины отлынивать, что это невозможно и безобразно. Шамшин старался уверить Чудакова, что принуждать старого человека, вот это безобразие. Тогда кто-нибудь пускал вскользь фразу: «Знаем, ему надо ехать завтракать с гречанками», начинался смех, расспросы, как вчера он провел время. Шамшин огрызался понемногу, одеваясь и надев брюки, исчезал в уборную. Такое подтрунивание над Ш. повторялось почти ежедневно. Кончалось тем, что и Шамшин, и Чудаков сбега́ли в город первыми, а домоседы дежурили.
Чудаков был самый ярый покупатель газет, почему Иван должен был рано утром покупать ему парижские и местные, если какой-либо не хватало, Чудаков яростно накидывался на Ивана, Иван же нисколько не боялся крика хозяина и в грубой фамильярной форме отвечал, что «Матен» сегодня из Парижа не привезли. Курьёзно было видеть Ивана в совершенно сбитых набок длинных сапогах, в картузе и какой-то полувоенной-полуштатской одеже, покупающим французские газеты. Для Чудакова Иван был просто вещь, он орал на него при всякой возможности. Зачем потащил его Чудаков с собой, он, кажется, и сам не знал [зачем], но, дотащив до Одессы, ему стало жаль расстаться с ним и Ванюха попал за границу. Иван был обязан ухаживать только за Чудаковым, и в виде особого уважения Чудакова к Михаилу Васильевичу допускалось, что Иван чистил наши сапоги.
В течение дня Чудаков пропадал в городе, «личарда» был совершенно свободен, и от нечего делать он целыми днями валялся на кровати и бо́льшую часть времени спал, что не портило его ночного сна, во время которого он нередко бредил, вскакивал, и видно было, что во сне он тревожился военными воспоминаниями. Моя кровать стояла почти рядом с его, и однажды ночью я слышу, он бормочет: «Ай Чудаков – настоящий Чудаков». В конце концов уже перед самым нашим отъездом на Ивана нашла тоска по родине, где у него осталась жена с двумя ребятами, и Ванюха наш, найдя подходящую компанию, здо́рово загулял и совершенно пьяный предстал пред очи грозного хозяина, но Чудаков отнесся к этому снисходительно. В сущности, Чудаков был очень скромный человек, в жизни же порывистый и безалаберный, но очень милый человек, очень расположенный к нам, и весь барак его любил.
Вообще жизнь у нас в бараке была похожа на коммуну, особенно вечером, когда собиралась вся наша компания. Электричества почему-то у нас не было, почему приходилось жечь свечи, вставленные в бутылки. Ставились они на длинном столе, прислоненном к концам кроватей, на которых спали Николай и Иван Ивановичи Оловянниковы, о которых я забыл упомянуть. Люди они были смирные и этому не сопротивлялись. А было чему, так как сидеть приходилось нам на полуразвалившихся скамьях; кому не было места, лезли к ним на кровати, тут же ели, пили чай, воду для которого доставал Иван из кухни, где были русские повара, тут же пили красное вино, откупоривали консервы, сардины; на столе в жестяных банках стояли два нескладных букета, падавшие постоянно. Грязь и хаос на столе были невообразимые, что отражалось на кроватях Оловянниковых.
За этим же столом происходила игра в преферанс, к игравшим присоединялись не игравшие, подходила публика из других бараков. Все старались учить, давали советы, и наконец у стола собиралась целая толпа народу, стоял гам, шум, превращавшийся в страшное орание, когда удавалось кого-нибудь обремизить без двух, без трех, а случалось, и без четырех. Конечно, когда ремизился А. И. Шамшин, то поднимался наибольший шум, но это бывало редко, чаще попадал Б. Швецов и Михаил Васильевич, который не желал считаться ни с какими правилами игры, да он их и не знал. А. И. Шамшин не признавал игры дешевле полкопейки, почему игра оканчивалась проигрышем руб. в 50, но расчитывались карбованцами, которые, казалось, больше ни на что не были пригодны, а потому легко проигрывались, не доставляя большой радости выигравшему. Вообще же карбованцы совершенно не имели цены, только офицеры умели сбывать их в городе единственно за коньяк, причем приходился он по невероятной цене, но они предпочитали получить хоть что-нибудь, чем таскать с собой эти несчастные деньги, да еще получали возможность напиться с горя, что в их среде было явлением нередким. Часто на одном конце стола шла игра в карты, а на другом Михаил Васильевич играл с Анпеновым или Смирновым в шахматы. На одном конце шум, а на другом страшная сосредоточенность. Обыкновенно били Михаила Васильевича: партнеры были сильные, а [его] голова была занята другими вопросами.
Анпенов был настоящий джентльмен. Происходя из крестьянской семьи, он получил образование в семинарии, потом попал на службу к Губкину и Кузнецову в Коломбо. Он прожил там больше 30 лет, совершенно англизировался, а в последние годы стал там русским консулом. По-английски говорил он, конечно, как англичанин. Кроме знания языка он знал все обычаи, приемы и взгляды англичан, почему для нас был неоценимым помощником при всех сношениях с англичанами. Со Швецовым был он старый приятель. Анпенов был человек долга, и всем, чем только и где только мог, он старался облегчить положение беженцев. Так он принял на себя хлопоты, чтобы деньги наши менялись по более приличному курсу, что было чрезвычайно важно для всех. Это ему не удалось, но как у нас полагается, многие взялись его ругать. Он это знал и не обижался.
На «Капуртале» им был поднят вопрос о том, что мы бесплатно пользуемся гостеприимством англичан, что мы обязаны отблагодарить их. Его просили обсудить этот вопрос с капитаном, который ответил, что англичане исполнили свой долг, а потому никакой благодарности не подлежат; хотели дать на чай команде – ответ тот же. Однако было собрано 15 000 руб., которые в конце концов с ведома капитана были переданы русскому консулу в Салониках для оказания помощи беднейшим офицерам и беженцам. Тогда решили послать благодарственную телеграмму английскому королю. Ее составил Михаил Васильевич, а Анпенов перевел. В этой телеграмме было особенно удачное выражение, в котором говорилось, что русский народ не забудет отношение к его бедам союзников и оценит их по заслугам. Конечно, в телеграмме упоминалось с благодарностью отношение к нам команды «Капурталы».
Как денежные дела, так и вопрос о благодарности и еще другие вопросы обсуждались, когда были на пароходе, на его палубе, а в лагере – около нашего знаменитого стола. Председателем обычно выбирался Михаил Васильевич, а исполнение постановлений поручалось комиссии, не обходившейся без Анпенова. О Смирнове мало что можно сказать. Этот человек был предан душой и телом Швецову. Человек тихий, занимавший крупный пост в Туркестане по делам Купеческого банка. Он намеревался через Владивосток пробраться в Туркестан, где находилась его семья, с которой он не видался два года и ничего о ней не знал, как и она о нем.
Жил у нас в бараке еще Валентин Семенович Вишняков, двоюродный брат С. Н. Урусова. Это был человек молчаливый, всегда в себе. Забрался он в самый отдаленный угол барака и никакого участия в жизни барака не принимал. По утрам, с самым сосредоточенным видом, чистил он щеткой свои чулки. Говорили, что он был человек страшно нерешительный и все не знал, куда ему деваться. Кажется, наконец он уехал на Афон.
Жил с нами Николай Алексеевич Михайлов с 14-летним сыном, длинным парнем. Жена Николая Алексеевича, урожденная Ильина, с другими детьми осталась в Харькове. Николай Алексеевич всю жизнь провел в работе, торгуя мехами в Москве. Это был человек дела, по характеру полная противоположность Чудакову, почему, вероятно, они очень дружили. Николай Алексеевич тоже принимал живое участие в наших комиссиях; он всегда старался чем-нибудь заняться и жестоко ворчал на сына, когда видел его без дела. Бедный юноша по возможности огрызался и не упускал случая напасть с ворчанием на родителя. Один раз было очень слышно. Николай Алексеевич захворал. Пошли у него нарывы то на лице, то на шее, ходил он с забинтованной головой, должен был держать диету, почему еду приходилось ему готовить самому для себя. Послал он Алешу за яйцами, а юноша ловкостью не отличался. Возвращается Алеша с пакетом и роняет его к ногам отца, конечно, все яйца разбились. Последовала безмолвная картина. Папинька употребил громадные усилие, чтобы сдержать себя. Сын ожидал грома и молний, а папинька остался без ужина. Так текла наша жизнь.
В конце барака находились две комнаты для семейных. В одной жили муж и жена Крестовниковы, а в другой поместился молодой Шамшин со своей певицей, при которой состояла горничная, близко познакомившаяся с русскими и французскими солдатами, а в этих поклонниках недостатку не было.
Певица принимала участие в карточной игре, играя вместе либо с молодым Шамшиным, либо с Борисом, причем обычно сидела, обнявшись со своим соигроком, величая обоих на ты, дело доходило и до поцелуев. Молодой Шамшин, умный, грубый, решительный человек, сравнительно редко появлялся в нашей компании. С отцом у него были отношения особенные – они друг другу уже не мешали. Только старик, с которым я перешел даже на «ты» и звал его «Саша́», говорил мне: «Удивляюсь, чего Тихон нашел в этой бабе», и мы между собой ее часто ругали. Она, вероятно, это чувствовала и была со мной холодна, может быть… может быть… потому, что я был в очень хороших отношениях с ее соперницей, жившей в другом бараке. А потом, благодаря своей безалаберности, она так испортила себе желудок, что попала в госпиталь и лежала в отдельной комнате. Поправившись, она не захотела покинуть госпиталь, так как один из врачей напоминал ей ее первую любовь. Было ей лет 28–30 – и сколько она пережила всяких увлечений. Скрутив головы команде «Капурталы», она влюбилась и влюбила в себя красавца-англичанина, занимавшего крупное положение в салоникском порту. Дошло до того, что он сделал ей предложение. Она была в страшном затруднении, так как у нее в России остался муж, с которым она давно не жила, но развода не было, а какой же теперь развод, когда в России все развалилось. Негде было искать концов, а англичанина упустить жаль, уж больно парень хорош и красив. Мария Петровна17 уехала в Афины с семьей Н. А. Швецова, и как разобралась эта сложная история, знает Бог.