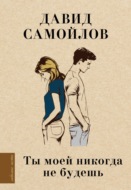Kitobni o'qish: «А снег идет…»
Shrift:
© Евтушенко Е.А., наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Со мною вот что происходит…

«Я сибирской породы…»
Я сибирской породы.
Ел я хлеб с черемшой
и мальчишкой паромы
тянул, как большой.
Раздавалась команда.
Шел паром по Оке.
От стального каната
были руки в огне.
Мускулистый,
лобастый,
я заклепки клепал
и глубокой лопатой,
где велели, копал.
На меня не кричали,
не плели ерунду,
а топор мне вручали,
приучали к труду.
А уж если и били
за плохие дрова —
потому что любили
и желали добра.
До десятого пота
гнулся я под кулем.
Я косою работал,
колуном и кайлом.
Не боюсь я обиды,
не боюсь я тоски.
Мои руки оббиты
и сильны, как тиски.
Все на свете я смею,
усмехаюсь врагу,
потому что умею,
потому что могу.
1954
«Я шатаюсь в толкучке столичной…»
Я шатаюсь в толкучке столичной
над веселой апрельской водой,
возмутительно нелогичный,
непростительно молодой.
Занимаю трамваи с бою,
увлеченно кому-то лгу,
и бегу я сам за собою,
и догнать себя не могу.
Удивляюсь баржам бокастым,
самолетам, стихам своим.
Наделили меня богатством.
Не сказали, что делать с ним.
1955
Зависть
Завидую я.
Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю, что живет мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Завидую тому,
как он дерется, —
я не был так бесхитростен и смел.
Завидую тому,
как он смеется, —
я так смеяться в детстве не умел.
Он вечно ходит в ссадинах и шишках, —
я был всегда причесанней, целей.
Все те места, что пропускал я в книжках,
он не пропустит.
Он и тут сильней.
Он будет честен жесткой прямотою,
злу не прощая за его добро,
и там, где я перо бросал:
«Не стоит!» —
он скажет:
«Стоит!» – и возьмет перо.
Он если не развяжет,
так разрубит,
где я не развяжу, не разрублю.
Он если уж полюбит,
не разлюбит,
а я и полюблю
да разлюблю.
Я скрою зависть.
Буду улыбаться.
Я притворюсь, как будто я простак:
«Кому-то же ведь надо ошибаться,
кому-то же ведь надо жить не так».
Но сколько б ни внушал себе я это,
твердя:
«Судьба у каждого своя», —
мне не забыть, что есть мальчишка где-то,
что он добьется большего,
чем я.
1955
«Окно выходит в белые деревья…»
Л. Мартынову
Окно выходит в белые деревья.
Профессор долго смотрит на деревья.
Он очень долго смотрит на деревья
и очень долго мел крошит в руке.
Ведь это просто —
правила деленья!
А он забыл их —
правила деленья!
Забыл —
подумать —
правила деленья.
Ошибка!
Да!
Ошибка на доске!
Мы все сидим сегодня по-другому,
и слушаем и смотрим по-другому,
да и нельзя сейчас не по-другому,
и нам подсказка в этом не нужна.
Ушла жена профессора из дому.
Не знаем мы,
куда ушла из дому,
не знаем,
отчего ушла из дому,
а знаем только, что ушла она.
В костюме и немодном и неновом,
да, как всегда, немодном и неновом, —
спускается профессор в гардероб.
Он долго по карманам ищет номер:
«Ну что такое?
Где же этот номер?
А может быть,
не брал у вас я номер?
Куда он делся? —
трет рукою лоб. —
Ах, вот он!..
Что ж,
как видно, я старею,
Не спорьте, тетя Маша,
я старею.
И что уж тут поделаешь —
старею…»
Мы слышим —
дверь внизу скрипит за ним.
Окно выходит в белые деревья,
в большие и красивые деревья,
но мы сейчас глядим не на деревья,
мы молча на профессора глядим.
Уходит он,
сутулый,
неумелый,
какой-то беззащитно неумелый,
я бы сказал —
устало неумелый,
под снегом,
мягко падающим в тишь.
Уже и сам он,
как деревья,
белый,
да,
как деревья,
совершенно белый,
еще немного —
и настолько белый,
что среди них
его не разглядишь.
1955
Пролог
Я разный —
я натруженный и праздный.
Я целе-
и нецелесообразный.
Я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Я так люблю,
чтоб все перемежалось!
И столько всякого во мне перемешалось —
от запада
и до востока,
от зависти
и до восторга!
Я знаю – вы мне скажете:
«Где цельность?»
О, в этом всем огромная есть ценность!
Я вам необходим.
Я доверху завален,
как сеном молодым
машина грузовая.
Лечу сквозь голоса,
сквозь ветки, свет и щебет,
и —
бабочки
в глаза,
и —
сено
прет
сквозь щели!
Да здравствуют движение и жаркость,
и жадность,
торжествующая жадность!
Границы мне мешают…
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
хочу проехать утренним Парижем!
Хочу искусства разного,
как я!
Пусть мне искусство не дает житья
и обступает пусть со всех сторон…
Да я и так искусством осажден.
Я в самом разном сам собой увиден.
Мне близки
и Есенин,
и Уитмен,
и Мусоргским охваченная сцена,
и девственные линии Гогена.
Мне нравится
и на коньках кататься,
и, черкая пером,
не спать ночей.
Мне нравится
в лицо врагу смеяться
и женщину нести через ручей.
Вгрызаюсь в книги
и дрова таскаю,
грущу,
чего-то смутного ищу
и алыми морозными кусками
арбуза августовского хрущу.
Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру
на белом свете,
то я умру от счастья,
что живу.
1956
«Нас в набитых трамваях болтает…»
Нас в набитых трамваях болтает.
Нас мотает одна маета.
Нас метро то и дело глотает,
выпуская из дымного рта.
В смутных улицах, в белом порханье
люди, ходим мы рядом с людьми.
Перемешаны наши дыханья,
перепутаны наши следы.
Из карманов мы курево тянем,
популярные песни мычим.
Задевая друг друга локтями,
извиняемся или молчим.
Все, что нами открылось, узналось,
все, что нам не давалось легко,
все сложилось в большую усталость
и на плечи и души легло.
Неудачи, борьба, непризнанье
нас изрядно успели помять,
и во взглядах и спинах – сознанье
невозможности что-то понять.
1956
46 671,69 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
12+Litresda chiqarilgan sana:
22 dekabr 2024Yozilgan sana:
2024Hajm:
70 Sahifa ISBN:
978-5-17-161112-5Mualliflik huquqi egasi:
Издательство АСТseriyasiga kiradi "Любимые поэты"