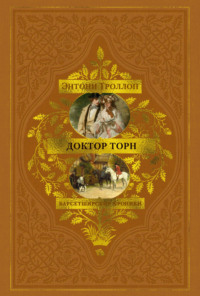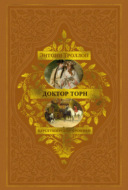Kitobni o'qish: «Барсетширские хроники: Доктор Торн»
Anthony Trollope
DOCTOR THORNE
© С. Б. Лихачева, перевод, примечания, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Глава I
Грешемы из Грешемсбери
Прежде чем свести знакомство со скромным сельским врачом, которому суждено стать главным героем нижеследующей повести, читателю не помешает узнать побольше о той местности, где практикует наш доктор, и о его соседях.
Есть на западе Англии графство, не слишком оживленное и не то чтобы у всех на слуху, в отличие от своих промышленных громадин-собратьев на севере, и тем не менее оно дорого сердцу тех, кто хорошо с ним знаком. Его зеленые пастбища, его колышущиеся волны пшеницы, его тенистые – и, не будем скрывать, утопающие в грязи проселки, его изгороди с перелазами и тропинки, его коричнево-желтые, добротные сельские церкви, его буковые аллеи и тюдоровские особняки тут и там, и нескончаемые охоты на лис, и учтивое обхождение, и всепроникающий дух клановости – благодаря всему этому для тамошних жителей родное графство – плодоносная земля Гесем. Оно целиком и полностью земледельческое: земледельческое по своей товарной продукции, земледельческое в том, что касается его бедноты и его увеселений. Есть в нем, конечно, и городишки: оттуда привозят семена и бакалейный товар, ленты и лопатки для углей, там устраивают ярмарки и провинциальные балы, там переизбирают депутатов в парламент, обычно – наперекор всем избирательным реформам, прошлым, настоящим и будущим, – по велению какого-нибудь влиятельного местного землевладельца; из таких городишек являются деревенские почтальоны, там же берут почтовых лошадей для разъездов с визитами. Но эти городишки ничего не прибавляют к значимости графства; они все, за исключением разве того города, где проходят выездные сессии суда присяжных, состоят из одной-единственной унылой как смерть улицы. В каждом есть две водокачки, три гостиницы, десяток лавок, пятнадцать пивных, один церковный сторож и рыночная площадь.
И впрямь, когда речь заходит о значимости графства, городское население в расчет не берут. Единственное исключение, как говорилось выше, составляет город, где заседает выездной суд; тут же находится и кафедральный собор. Здесь гнездо клерикальной аристократии, которая, разумеется, обладает должным весом. Свой епископ, свой настоятель, архидьякон, три-четыре пребендария и все их бессчетные капелланы, викарии и прочая церковная свита составляют общество достаточно могущественное, чтобы с ним считались местные сквайры. В остальном величие Барсетшира всецело зависит от землевладельцев.
Впрочем, сегодняшний Барсетшир не настолько един и целен, как во дни до того, когда Избирательная реформа расколола его надвое. Нынче есть Восточный Барсетшир и есть Западный, и люди, знакомые с барсетширскими событиями не понаслышке, утверждают, будто уже угадывают некие разногласия, некое расхождение интересов. Восточная половина графства куда консервативнее западной; последняя затронута – сейчас или в прошлом – скверной пилизма, кроме того, там – резиденции столь влиятельных вигов, как герцог Омниум и граф Де Курси, и эти двое магнатов до какой-то степени оттесняют на второй план и затмевают джентльменов, проживающих по соседству.
Вот в Восточный Барсетшир мы и отправимся. В те неспокойные дни, когда впервые зашла речь о вышеупомянутом разделе графства, когда доблестные герои все еще бились против министров-реформаторов если не с надеждой, то с пылом и с жаром, никто не сражался в этой битве отважнее Джона Ньюболда Грешема из Грешемсбери, депутата парламента от Барсетшира. Однако судьба и герцог Веллингтон судили иначе, и в парламенте следующего созыва Джон Ньюболд Грешем представлял уже только Восточный Барсетшир.
Поговаривали, будто в часовне Святого Стефана ему пришлось общаться с публикой такого пошиба, что сердце у бедняги не выдержало; правда это или нет, судить не нам. Так или иначе, до конца первого года работы реформированного парламента он и в самом деле не дожил. Смерть исхитила мистера Грешема в возрасте далеко не старом, а его старший сын, Фрэнсис Ньюболд Грешем, был тогда еще совсем юн. Однако ж, невзирая на его молодость и невзирая на еще некоторые доводы против его кандидатуры, о которых пойдет речь ниже, его избрали на место отца. Память об отцовских заслугах была еще слишком свежа; настолько отвечали они всеобщим настроениям и настолько высоко оценивались земляками, что любой другой выбор представлялся немыслимым. Вот так молодой Фрэнк Грешем оказался депутатом парламента от Восточного Барсетшира, хотя те самые люди, что его избирали, отлично понимали, как мало у них оснований вверить ему свой голос.
Фрэнк Грешем, хоть в ту пору ему исполнилось только двадцать четыре, был женат и уже успел стать отцом семейства. Своим выбором супруги он дал жителям Восточного Барсетшира серьезные основания для беспокойства. Он женился ни много ни мало как на леди Арабелле Де Курси, сестре могущественного графа из замка Курси в Западном Барсетшире, закоренелого вига; граф этот не только сам проголосовал за билль об Избирательной реформе, но еще и постыднейшим образом склонял к тому же других молодых пэров, так что при одном упоминании его имени сквайры графства, убежденные тори, брезгливо морщили нос.
А Фрэнк Грешем не только выбрал себе неподобающую супругу, не только женился столь непатриотичным образом, но усугубил свои грехи еще и тем, что безрассудно сблизился с жениной родней. Да, он по-прежнему называл себя тори и состоял в клубе, в котором отец его некогда считался одним из самых уважаемых членов; да, во дни великой битвы Грешему-младшему в потасовке проломили голову (причем бился он на правой стороне), тем не менее добропорядочные избиратели Восточного Барсетшира, до синевы преданные партии, полагали, что частый гость замка Курси никак не может считаться последовательным тори. И все же после смерти отца проломленная голова сослужила сыну добрую службу; его страдания во имя правды вкупе с заслугами Грешема-старшего склонили чашу весов в его пользу: на совещании в барчестерском трактире «Георгий и дракон» было решено, что Фрэнк Грешем займет отцовское место.
Впрочем, место это оказалось Фрэнку Грешему не по мерке. Да, он стал депутатом от Восточного Барсетшира, да только депутат из него получился не ахти – вялый, равнодушный, якшается с врагами правого дела, а вот добрая драка не по его части; очень скоро он отвратил от себя всех тех, кто чтил в сердце память о старом сквайре.
В те времена замок Де Курси таил в себе немало неодолимых соблазнов для юноши, и все эти соблазны пустили в ход, дабы перетянуть на свою сторону молодого Грешема. Его жена, годом или двумя старше Фрэнка, была женщина светская, с совершенно виговскими вкусами и устремлениями, как и пристало дочери могущественного графа-вига. Она интересовалась политикой – или думала, что интересуется – больше своего мужа, ибо месяца за два до помолвки состояла при дворе и там ей внушили, что политика английских правителей в изрядной степени зависит от политических интриг английских женщин. Она преохотно занялась бы делом, если бы только знала как, и прежде всего постаралась превратить своего респектабельного молодого супруга-тори в жалкого прихвостня вигов. Хочется верить, что характер этой дамы в полной мере раскроется на последующих страницах, так что описывать его подробнее здесь нет нужды.
Быть зятем влиятельного аристократа, депутатом парламента от графства и владельцем завидной фамильной усадьбы и не менее завидного фамильного состояния не так уж и плохо. В ранней молодости Фрэнку Грешему эта новая жизнь пришлась очень даже по вкусу. Он, как мог, утешал себя, ловя угрюмые взгляды сопартийцев, и платил им тем, что теснее прежнего общался со своими политическими противниками. Бездумно, словно глупый мотылек, он летел на яркий свет – и, конечно же, опалил себе крылышки. В начале 1833 года он стал членом парламента, а осенью 1834 года парламент был распущен. Молодые депутаты двадцати трех – двадцати четырех лет о роспуске парламента не больно-то задумываются, забывают о непостоянстве своих избирателей и слишком гордятся настоящим, чтобы сколько-то просчитывать будущее. Вот так оно вышло и с мистером Грешемом. Его отец всю жизнь был депутатом от Барсетшира, и мистер Грешем рассчитывал на будущность столь же благополучную как на часть своего законного наследия, однако ничего не сделал, чтобы закрепить за собой отцовское место.
Итак, осенью 1834 года парламент был распущен, и Фрэнк Грешем, вместе со своей благородной супругой и всеми Де Курси в качестве опоры и поддержки, обнаружил, что смертельно разобидел родное графство. К его вящему негодованию был выдвинут другой кандидат – как единомышленник почившего коллеги, и хотя мистер Грешем мужественно сражался и потратил в этой битве десять тысяч фунтов, вернуть утраченные позиции он так и не сумел. «Высокий тори», поддерживаемый влиятельными вигами, в Англии персона непопулярная. Ему никто не доверяет, хотя находятся те, кто, пусть и не доверяя, готов посодействовать его назначению на ответственный пост. Именно так случилось и с мистером Грешемом. Многим, по семейным соображениям, хотелось сохранить за ним место в парламенте, но никто не считал, что он того достоин. В результате разгорелось яростное дорогостоящее противоборство. Фрэнк Грешем, когда его попрекали, что он-де виг, отрекался от семейства Де Курси, а когда над ним насмехались, говоря, что от него, мол, даже тори отвернулись, открещивался от старых отцовских друзей. Пытаясь усидеть между двух стульев, он рухнул на землю и как политик на ноги уже не встал.
На ноги он уже так и не встал, но дважды изо всех сил попытался. Выборы в Восточном Барсетшире в те времена по разным причинам быстро следовали одни за другими, и, еще не достигнув двадцати восьми лет, мистер Грешем трижды выставлял свою кандидатуру в графстве и трижды проигрывал. По правде сказать, сам он ограничился бы потерей первых десяти тысяч фунтов, но леди Арабелла сдаваться не собиралась. Она вышла замуж за владельца завидной усадьбы и завидного состояния, однако ж вышла замуж за коммонера, чем уронила свое высокородное достоинство. Она считала, что ей подобало сочетаться браком с тем, кто по праву заседает в палате лордов, но раз уж не сложилось, то пусть ее муж хотя бы займет место в нижней палате. Если она будет сидеть сложа руки, довольствуясь ролью просто-напросто жены просто-напросто деревенского сквайра, то постепенно впадет в ничтожество.
Подзуживаемый супругой, мистер Грешем трижды вступал в заведомо проигрышное состязание, и каждый раз это обходилось ему недешево. Он терял деньги, леди Арабелла – терпение, а в Грешемсбери дела шли все хуже – совсем не так, как при старом сквайре.
В первые двенадцать лет брака детская Грешемсбери стремительно пополнялась. Родился сын; в ту благословенную пору был еще жив старый сквайр, и приход в мир наследника Грешемсбери встречали великим восторгом и ликованием. По всей округе полыхали костры, над огнем жарились бычьи туши; традиционные празднества, как принято у состоятельных британцев по такому поводу, прошли с грандиозным размахом и пышностью. Но когда на свет появился десятый ребенок – девятая по счету дочка, – внешние проявления радости были уже не столь бурными.
Затем начались треволнения иного рода. Одни девочки уродились хворыми и хилыми, другие – очень хилыми и очень хворыми. У леди Арабеллы были свои недостатки, которые немало вредили счастью ее мужа и ее собственному, но никто не назвал бы ее плохой матерью. Многие годы она денно и нощно изводила мужа, потому что он не прошел в парламент, потому что отказывался обставить особняк на Портман-сквер, потому что каждую зиму возражал против того, чтобы в Грешемсбери-парк приезжало больше гостей, нежели усадьба способна вместить, но теперь она запела на другой лад и пилила его, потому что Селина кашляет, потому что у Хелены жар, потому что у бедняжки Софи слабая спинка, а у Матильды пропал аппетит.
Кто-то скажет, что беспокоиться по таким серьезным поводам простительно. Простительно, да, но внешнее проявление материнских чувств простительным не назовешь. Несправедливо было объяснять кашель Селины старомодностью меблировки на Портман-сквер, да и позвоночник Софи вряд ли существенно укрепился бы оттого, что ее отец заседал бы в парламенте, и однако ж, слушая, как леди Арабелла обсуждает эти проблемы на семейном конклаве, всякий подумал бы, что именно таких результатов она и ждет.
А пока ее ненаглядных болящих бедняжек возили из Лондона в Брайтон, из Брайтона куда-то на воды в Германию, с германских вод – обратно в Торки, а оттуда – четверых поименованных выше – в тот безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам и ни в какое новое путешествие уже не поедешь, даже по распоряжению леди Арабеллы.
Единственного сына и наследника Грешемсбери нарекли Фрэнсисом Ньюболдом Грешемом в честь отца. Он-то и стал бы героем нашей повести, если бы это место не занял заблаговременно сельский доктор. Собственно, вы вольны считать юношу героем, если угодно. Это ему предстоит стать нашим любимцем и участвовать в любовных сценах, это его ждут испытания и невзгоды, а уж справится он с ними или нет – увидим. Для авторского жестокосердия я уже слишком стар, так что, возможно, он от разбитого сердца не умрет. Те, кто считает, будто немолодой, неженатый сельский доктор в герои не годится, пусть возьмут вместо него наследника Грешемсбери и при желании назовут книгу «Любови и приключения Фрэнсиса Ньюболда Грешема-младшего».
А мастер Фрэнк Грешем на роль героя подходил очень даже неплохо. В противоположность сестрицам он отличался цветущим здоровьем и, даром что единственный в семье мальчик, затмевал их всех красотой. Грешемы испокон веков все как на подбор были хороши собой: синеглазые, светловолосые, с широким лбом, ямочками на подбородке и тем подкупающе опасным аристократическим изгибом верхней губы, который может в равной степени выражать и благодушие, и презрение. А молодой Фрэнк был Грешемом с головы до пят, отрадой отцовского сердца.
Представители семейства Де Курси на невзрачную внешность не жаловались. В их походке, в манере держаться и даже в лице сквозило слишком много надменности, и высокомерия, и, мы бы даже по справедливости сказали, благородства, чтобы кто-нибудь счел их невзрачными, но род их был не то чтобы вскормлен Венерой и взращен Аполлоном. Они были рослы, худощавы, с резко очерченными скулами, высоким лбом и большими, горделивыми, холодными глазами. Все девушки Де Курси могли похвастаться роскошными волосами, а еще – непринужденными манерами и умением поддерживать беседу, так что им удавалось сойти за красавиц до тех пор, пока их не сбудут с рук на матримониальном рынке, а тогда мир в целом уже не заботило, красавицы они или нет. Юные мисс Грешем были вылитые Де Курси, и мать их за это любила ничуть не меньше.
Две старшие девочки, Августа и Беатрис, выжили и, по всей видимости, покидать этот мир пока не собирались. Четыре следующих зачахли и умерли одна за другой – все в течение одного и того же скорбного года – и упокоились на ухоженном новом кладбище в Торки. Затем родились близнецы – слабенькие, хрупкие, нежные цветочки, темноволосые, темноглазые, с вытянутыми исхудалыми бледными личиками, с длинными худосочными кистями и стопами; казалось, они обречены вскорости последовать за сестрицами. Однако до сих пор этого не произошло, да и болели они меньше сестер, и кое-кто в Грешемсбери объяснял это сменой семейного доктора.
А потом родилась младшенькая – та самая, чье появление на свет, как сказано выше, не было ознаменовано шумной радостью, ведь когда она пришла в мир, четверо других, с бледными висками, впалыми поблекшими щечками и бескровными, как у скелетиков, ручонками, только и ждали дозволения его покинуть.
Вот как обстояли дела в семье, когда в 1854 году старший сын достиг совершеннолетия. Он окончил Харроу, теперь учился в Кембридже, но, разумеется, такой день не мог не провести под родным кровом, ведь совершеннолетие – волнующее и радостное событие для юноши, которому по праву рождения предстоит унаследовать обширные земли и огромное богатство. Эти громогласные поздравления, эти добрые пожелания, которыми встречают его возмужание седовласые старожилы графства; сердечные, почти материнские ласки соседских матерей, которые знают его с колыбели, – матерей, у которых есть дочери, пожалуй, достаточно хорошенькие, и добронравные, и милые даже для такого, как он; тихие, полузастенчивые, но сладостные приветствия девушек, которые теперь, вероятно, впервые, называют его по всей форме «мистер Такой-то»: не столько наставления, сколько инстинкт им подсказывает, что настало время отказаться от фамильярного обращения «Чарльз» или «Джон»; слуху его льстят восклицания вроде «счастливчик» и «везунчик» и намеки, что кое-кто родился с серебряной ложкой во рту; сверстники по очереди хлопают его по спине и желают прожить тысячу лет и еще столько же; радостно гомонят арендаторы, старики-фермеры с чувством жмут ему руку и желают всяческих благ; фермерские жены расцеловывают его в обе щеки, он расцеловывает фермерских дочек – благодаря этому всему двадцать первый день рождения не может не стать очень приятным событием для молодого наследника. Впрочем, для юноши, который понимает, что унаследовал только одну привилегию – всю полноту ответственности перед законом и теперь в случае чего подлежит аресту, удовольствие, вероятно, не столь велико.
Применительно к молодому Фрэнку Грешему уместно было говорить скорее о первом, нежели о втором сценарии, и однако ж церемония в честь его совершеннолетия далеко уступала той, которая выпала на долю его отца. Мистер Грешем пребывал ныне в стесненных обстоятельствах, и хотя мир об этом не знал – или, по крайней мере, не знал, насколько в стесненных! – он так и не собрался с духом распахнуть двери дома настежь и принять у себя в гостях все графство, не жалея расходов, как будто дела его шли на лад.
Ведь дела-то на лад не шли. Ничего ровным счетом не ладилось ни у него, ни вокруг него – стараниями леди Арабеллы. Теперь у мистера Грешема все вызывало досаду: он больше не был прежним беспечным счастливцем, и жители Восточного Барсетшира не ждали каких-то грандиозных торжеств в тот день, когда молодому Грешему исполнится двадцать один.
Какие-никакие торжества все-таки состоялись. Стоял июль, и для арендаторов накрыли столы в тени дубов. На столах было мясо, вино и пиво, Фрэнк обходил гостей, всем пожимал руки и выражал надежду, что их общение будет долгим, тесным и взаимовыгодным.
Теперь самое время сказать несколько слов о Грешемсбери-парке. Это была великолепная старинная усадьба – собственно, была и есть, но прошедшее время здесь уместнее, ведь говорим мы о ней в контексте прошлых времен. Мы упомянули Грешемсбери-парк; да, был там и парк с таким названием, но сам усадебный дом именовался Грешемсбери-хаус и стоял не в парке. Деревня Грешемсбери представляла собою одну-единственную длинную извилистую улицу протяженностью в целую милю; на полпути она круто поворачивала, так что одна половина улицы располагалась точно под прямым углом к другой. В этом-то углу и стоял Грешемсбери-хаус, а образовавшееся таким образом пространство заполняли сады и угодья. В каждом конце деревни было по входу – у громадных врат несли стражу статуи рослых дикарей с дубинками, по двое у каждой створки, точно такие же, как на фамильном гербе; от каждого входа широкая прямая дорога пролегала до живописной липовой аллеи и подводила к самому дому. А дом был построен в роскошнейшем – наверное, следует сказать, чистейшем тюдоровском стиле, так что, хотя Грешемсбери не отличается законченностью Лонглита и уступает великолепием Хатфилду, в каком-то смысле его можно назвать лучшим образчиком тюдоровской архитектуры, каким только может похвастаться страна.
Стоит он в окружении множества ухоженных садов и каменных террас, отделенных друг от друга; на наш взгляд, они не столь привлекательны, как обширные лужайки наших сельских усадеб, но сады Грешемсбери славились на протяжении двух веков, и любого Грешема, который дерзнул бы хоть что-нибудь в них изменить, обвинили бы в варварском уничтожении одной из знаменитых семейных достопримечательностей.
Грешемсбери-парк как таковой раскинулся дальше, по другую сторону деревни. Напротив каждых громадных ворот, выходящих на дом, воздвиглись ворота поменьше, одни открывались на конюшни, псарни и скотный двор, другие – на олений парк. Эти вторые ворота и служили главным входом в имение – входом величественным и благолепным. Липовая аллея, что подводила к самому дому, в другую сторону тянулась на четверть мили и заканчивалась, только резко уперевшись в косогор. Перед входом высились четыре дикаря с четырьмя дубинками, по двое справа и слева. Благодаря каменной стене с вделанными в нее массивными железными створками, на которых красовался фамильный герб с еще двумя дикарями-щитодержателями при дубинках, и каменным сторожкам, и дорическим, увитым плющом колоннам, расставленным по кругу, и четырем грозным дикарям, и обширности самих угодий, которые примыкали к деревне и через которые пролегала проезжая дорога, парадный вход в полной мере отражал величие древнего рода.
Приглядевшись повнимательнее, можно было заметить под гербом ленту с девизом Грешемов: «Gardez Gresham»; те же слова повторялись мелкими буквами под каждым из щитодержателей. Такой девиз был, вероятно, выбран в рыцарские времена каким-нибудь герольдом, дабы возвестить миру об особых достоинствах семьи. Однако теперь, к сожалению, мнения о том, что за смысл вложен в эти слова, разошлись. Одни с геральдическим пылом доказывали, что призыв обращен к дикарям и велит им позаботиться о своем покровителе – «Берегите Грешемов», а другие (и я склонен с ними согласиться) столь же авторитетно утверждали, будто это совет всем и каждому, в особенности же тем, кто склонен бунтовать против знати графства: «Берегитесь Грешемов». Последняя трактовка подразумевает силу (так утверждали приверженцы этой гипотезы), первая – слабость. А ведь Грешемы всегда славились силой и мужеством и никогда не страдали ложной скромностью.
Мы не будем даже пытаться решить этот вопрос. Увы! ни то, ни другое истолкование нынешнему положению семьи не соответствовало. Со времен основания рода Грешемов в Англии произошли такие перемены, что теперь уже никакие дикари не могли защитить своих хозяев: Грешемам приходилось либо защищаться самим подобно простым смертным, либо жить безо всякой защиты. Да и соседям их не было нужды трястись от страха, стоит Грешему нахмурить брови. Оставалось только пожелать, чтобы теперешний Грешем мог с таким же безразличием воспринимать хмурые взгляды кое-кого из соседей.
Однако древние символы сохранились, и да пребудут они с нами сколь можно дольше; они и по сей день исполнены очарования и заслуживают любви. Они говорят нам о чести и мужестве былых времен, и тому, кто способен их верно истолковать, объясняют полнее и точнее, нежели любая письменная история, как англичане стали тем, что они есть. Англия пока еще не торговая страна в том смысле, в каком используется применительно к ней этот эпитет; будем же надеяться, что нескоро она в таковую превратится. С тем же успехом ее можно называть феодальной Англией или рыцарской Англией. Если в цивилизованной западной Европе и существует нация, в которой землевладельцы – это подлинная аристократия, наиболее заслуживающая доверия, наиболее достойная править, то нация эта – англичане. Выберите по десять видных политиков в каждой из великих европейских держав. Выберите их во Франции, в Австрии, в Сардинии, в Пруссии, в России, в Швеции, в Дании, в Испании, а затем выберите в Англии десятерых наиболее выдающихся государственных деятелей, известных поименно: результаты покажут, в какой стране все еще сохраняется глубокая приверженность добрым старым феодальным (как говорят сегодня – землевладельческим) интересам и искренняя в них вера.
Англия – торговая страна! Да, как некогда Венеция. Она может превзойти другие страны в сфере торговли, однако ж не этим она больше всего гордится, не в этом наиболее преуспела. Торговцы как таковые не первые люди среди нас; хотя торговец, вероятно, и может пробиться в высшие слои общества, дверь для него приоткрыта чуть-чуть, на малую щелочку. Купля-продажа – дело благое и нужное; очень нужное, и, вероятно, порою заключает в себе великое благо, но это никак не благороднейшее поприще для человека, и давайте надеяться, что при нашей жизни оно не будет считаться благороднейшим поприщем для англичанина.
Грешемсбери-парк поражал своими размерами: он раскинулся с внешней стороны угла, образованного деревенской улицей, и протянулся вдаль в обоих направлениях насколько хватает глаз – если смотреть с дороги или от домов. Действительно, здесь местность была настолько изрезана, а взгорья и конические, заросшие дубами холмы так выглядывают один из-за другого, что парк на вид кажется куда обширнее, нежели на самом деле. Человек посторонний, войдя туда, не без труда находил выход через какие-нибудь другие ворота, но так живописен был пейзаж, что ценитель природных красот охотно поддавался искушению там заплутать.
Я уже упоминал, что с одной стороны от усадьбы располагались псарни. В связи с этим расскажу об одном характерном эпизоде – эпизоде в жизни нынешнего сквайра весьма длительном. Некогда он представлял свое графство в парламенте, и хотя это осталось в прошлом, его по-прежнему снедало честолюбивое стремление так или иначе приобщиться к величию родного графства; ему по-прежнему хотелось, чтобы Грешем из Грешемсбери стал для Восточного Барсетшира кем-то бо́льшим, чем Джексон с Мызы, или Бейкер из Милл-Хилла, или Бейтсон из Эннисгроува. Все они были его добрыми друзьями и весьма уважаемыми помещиками, но мистер Грешем из Грешемсбери заслуживал большего, нежели все они вместе взятые; даже у него хватало честолюбия это осознать. Посему, как только появилась возможность, он стал распорядителем охоты.
Для такого занятия он подходил во всех отношениях, кроме финансового. Хотя в юные годы он оскорбил земляков в лучших чувствах своим безразличием к семейной политической традиции и некоторым образом проштрафился, вздумав баллотироваться от графства вопреки желанию собратьев-сквайров, тем не менее он носил всеми любимое, широко известное имя. Люди сожалели, что Грешем не оправдал всеобщих ожиданий и не пошел по отцовским стопам, но когда обнаружилось, что как политик он среди них не возвысится, всем по-прежнему хотелось, чтобы он возвысился хоть в чем-нибудь, если только в графстве найдется поприще, для него подходящее. А он между тем слыл превосходным наездником и молодчагой-парнем, он хорошо понимал в гончих, а с выводком лисенят был нежен как кормящая мамочка; он носился верхом по полям графства с пятнадцати лет, улюлюкал зычно, всех псов знал поименно и умел протрубить в рожок любой потребный на охоте сигнал; более того, как знал весь Барсетшир, унаследовал чистый доход в четырнадцать тысяч годовых.
Посему, когда пожилой «хозяин гончих», притомившись, ушел на покой – скрылся, так сказать, в норе, – спустя примерно год после того, как мистер Грешем выставил свою кандидатуру от графства в последний раз, все сошлись на том, что разумно и отрадно будет передать псов на попечение владельца Грешемсбери. Действительно, отрадно для всех, кроме леди Арабеллы, и разумно, вероятно, для всех, кроме самого сквайра.
В ту пору он уже был обременен значительными долгами. За два великолепных года, когда они с женой блистали среди великих мира сего, он издержал куда больше, чем следовало, и леди Арабелла тоже. Четырнадцати тысяч годовых должно было бы хватить на то, чтобы член парламента с молодой женой и двумя-тремя детьми позволил себе обосноваться в Лондоне и при этом содержать родовое поместье, но ведь Де Курси были величайшие из великих и леди Арабелла желала жить так, как привыкла сызмала и как жила ее невестка-графиня, а у лорда Де Курси было куда больше четырнадцати тысяч в год. Потом прошли три выборные кампании со всеми сопутствующими расходами, а за ними последовали те разорительные ухищрения, к которым вынуждены прибегать джентльмены, живущие не по средствам, но неспособные значительно урезать траты. Посему к тому времени, когда псарня переместилась в Грешемсбери, мистер Грешем уже изрядно обеднел.
Леди Арабелла всеми силами пыталась не допустить собак в усадьбу, однако леди Арабелла, хотя никто про нее не сказал бы, что она покорствует мужней воле, не могла и похвастаться тем, что муж во всем ей послушен. Именно тогда она повела первую свою мощную атаку на меблировку особняка на Портман-сквер, именно тогда ее впервые поставили перед фактом, что обстановка дома не то чтобы важна, поскольку в будущем леди Арабелле уже не придется переезжать вместе с семьей в столичную резиденцию на время лондонских сезонов. Нетрудно вообразить, что за перепалки последовали за таким многообещающим началом. Если бы леди Арабелла меньше допекала супруга и повелителя, он, вероятно, более трезвым взглядом посмотрел бы на свою блажь, которая грозила обернуться непомерным увеличением хозяйственных расходов; если бы он не потратил столько на увлечение, неугодное его жене, она, вероятно, меньше упрекала бы мужа за равнодушие к ее лондонским удовольствиям. Как бы то ни было, гончие обосновались в Грешемсбери, а леди Арабелла все-таки ежегодно выезжала на некоторое время в Лондон, и семейные расходы, конечно же, никоим образом не сократились.
Но теперь конуры снова опустели. За два года до начала нашей истории псарню перевели в усадьбу побогаче. Мистера Грешема это ранило куда сильнее, нежели все предыдущие бедствия. Он пробыл хозяином гончих десять лет – и, что ни говори, работу свою выполнял хорошо. Популярность в глазах соседей, которую он утратил как политик, он вернул себе как ловчий и предпочел бы и далее самовластно распоряжаться охотой, будь это возможно. Но он и без того оставался на своем посту куда дольше, чем следовало, и наконец псов забрали – и леди Арабелла даже не пыталась скрыть свою радость.
Но мы совсем позабыли о грешемсберийских арендаторах, а ведь они уже заждались под сенью дубов. Да, когда молодой Фрэнк достиг совершеннолетия, в Грешемсбери еще оставались какие-никакие средства – их хватило, чтобы разжечь один-единственный костер и зажарить одного бычка целиком в собственной шкуре. Возмужание Фрэнка прошло не то чтобы незамеченным, как оно порою случается с сыном приходского священника или местного адвоката. В «Стандарте», консервативной барсетширской газете, с полным правом могли написать, что в Грешемсбери шел пир горой – «тряслись брады», как всегда на такого рода празднествах в течение вот уже многих веков. Да, именно так в газете и говорилось, но описание это, подобно многим другим газетным репортажам, содержало в себе не более чем крупицу правды. «Не пустели кружки», это так, а вот брады тряслись не так задорно, как в былые годы. Сквайр был на грани отчаяния, пытаясь раздобыть денег, и все до одного арендаторы об этом уже прослышали. Всем подняли ренту, лес валили безжалостно, адвокат по недвижимости богател, торговцы в Барчестере, да что там, в самом Грешемсбери уже начинали роптать, а сквайру было не до веселья. При таких обстоятельствах глотки арендаторов поглощают и снедь, и пиво за милую душу, но вот брады не трясутся.