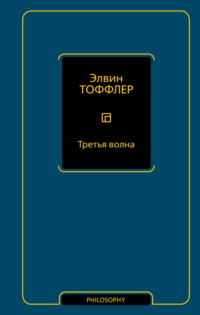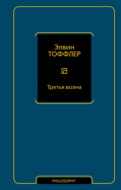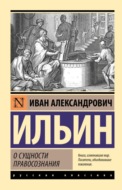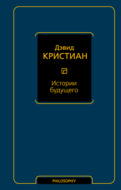Kitobni o'qish: «Третья волна», sahifa 10
Принцип прогресса
Мировоззрение, которое они распространяли, основывалось на трех глубоко переплетенных между собой «индуст-реальных» убеждениях, трех идеях, связывающих все страны Второй волны и отделяющих их от всего остального мира.
Первое из этих коренных убеждений связано с природой. Социалисты и капиталисты могут яростно спорить о том, как делить ее плоды, но и те и другие относятся к природе одинаково. Для них обоих природа – объект эксплуатации.
Мысль о том, что человек должен быть хозяином природы, существует, пожалуй, со времен сотворения мира. Тем не менее до промышленной революции ее придерживалось меньшинство людей. Более ранние культуры мирились с бедностью, исповедуя гармонию человека с окружающей его природой.
Эти ранние культуры тоже не очень-то дорожили природой – выкорчевывали и выжигали заросли, истощали пастбища, вырубали на дрова леса. Но их возможности по причинению ущерба экологии были ограничены. Они не оказывали большого влияния на планету и не нуждались в идеологии, оправдывающей варварское отношение к природе.
С наступлением цивилизации Второй волны капиталисты-промышленники в погоне за прибылью начали в массовом порядке выгребать ресурсы, отравлять воздух, вырубать леса целыми регионами, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Близорукость и эгоизм оправдывались мыслью о том, что природа должна быть служанкой человека.
При этом капиталисты были не одиноки. Повсюду, где они захватывали власть, марксисты-индустриализаторы (несмотря на убеждение, что прибыль – это корень всех зол) действовали в совершенно такой же манере. Более того, конфликт с природой был изначально заложен в их священном писании.
Марксисты рисовали первобытные народы не живущими в гармонии с природой, но ведущими с ней борьбу не на жизнь, а на смерть. С появлением классового общества, утверждали они, борьба «человека с природой», к сожалению, превратилась в борьбу «человека с человеком». Победа бесклассового коммунистического строя должна была позволить человечеству вернуться к изначальной повестке дня – борьбе человека с природной стихией.
Поэтому на обоих полюсах идеологического противостояния существовал образ человечества, сопротивляющегося природе и покоряющего ее. Этот образ – ключевой элемент «индуст-реальности», сверхидеологии, в которой берут начало представления как марксистов, так и оппонентов марксизма.
* * *
Вторая, связанная с первой идея шла еще дальше: люди не просто хозяева природы, они вершина длительного процесса эволюции. Хотя теории эволюции существовали и раньше, первым в середине XIX века научное обоснование этой точки зрения представил Дарвин, выросший в наиболее передовой индустриальной державе своего времени. Он заявил о слепом механизме «естественного отбора», неумолимом процессе отсева слабых и неэффективных жизненных форм. Сохранившиеся виды по умолчанию были наиболее жизнеспособны.
Дарвин главным образом занимался биологической эволюцией, однако другие быстро обнаружили в его мыслях явную общественно-политическую подоплеку. Социал-дарвинисты заявили, что принцип естественного отбора работает в человеческом обществе тоже и что наиболее богатые и влиятельные люди по определению являются его наиболее приспособленными и достойными членами.
Отсюда недалеко было до вывода о том, что все общества развиваются согласно тому же закону естественного отбора. Если исходить из этих доводов, индустриализм был более высокой стадией эволюции, чем окружавшие его неиндустриальные культуры. Проще говоря, цивилизация Второй волны превосходила все, что существовало до нее.
Точно так же, как социал-дарвинисты оправдывали капитализм, для оправдания империализма использовался культурный субъективизм. Растущий индустриальный уклад не мог выжить без дешевых ресурсов и выдвигал моральные оправдания для их изъятия по искусственно заниженным ценам, даже если это приводило к уничтожению аграрных и так называемых примитивных обществ. Идея общественной эволюции предоставляла интеллектуальное и нравственное оправдание обращения с доиндустриальными народами как с существами второго сорта и потому не заслуживающими права на жизнь.
Дарвин и сам с безразличием писал о геноциде аборигенов на острове Тасмания и в порыве людоедского энтузиазма предсказал, что «в некоторую будущую эпоху… цивилизованные человеческие расы почти наверное истребят и заместят дикие племена на всем земном шаре». Интеллектуальные лидеры цивилизации Второй волны не допускали сомнений в том, кто заслужил право на жизнь, а кто нет.
Хотя Маркс жестоко критиковал капитализм и империализм, он разделял мнение о том, что индустриализм является наиболее передовым общественным строем, этапом, к которому неизбежно будут стремиться в своем развитии все другие общества.
Третьим ключевым убеждением, связывавшим воедино природу и эволюцию, была вера в прогресс – идея о том, что история необратимо движется в сторону улучшения человеческой жизни. Опять же о прогрессе немало говорилось еще до индустриальной эпохи. Но только с наступлением Второй волны понятие прогресса стало великой идеей и расцвело пышным цветом.
В то время как Вторая волна толчками захлестывала Европу, прогресс начали воспевать тысячи голосов. Лейбниц, Тюрго, Кондорсе, Кант, Лессинг, Джон Стюарт Милль, Гегель, Маркс, Дарвин и целый сонм мыслителей меньшего калибра находили причины для оптимизма вселенских масштабов. Они могли спорить о неизбежности прогресса и необходимости помощи со стороны человека, о том, что понимать под лучшей жизнью и будет ли прогресс продолжаться бесконечно, однако каждый из них одобрял понятие прогресса как таковое.
Новую веру проповедовали атеисты и богословы, студенты и профессора, политики и ученые. Бизнесмены и комиссары одинаково превозносили сооружение каждого нового завода, выпуск каждого нового вида продукции, постройку нового жилищного комплекса, автострады, плотины как свидетельство неуклонного движения от плохого к хорошему и от хорошего к еще лучшему. Поэты, драматурги и художники принимали прогресс как данное. Прогрессом оправдывали ухудшение экологии и покорение «менее развитых» цивилизаций.
И опять та же самая мысль пронизывает работы и Адама Смита, и Карла Маркса. Как заметил Роберт Хайлбронер, «Смит верил в прогресс… В „Исследовании о природе и причинах богатства народов“ прогресс предстает не идеалистической целью человечества, а… пунктом назначения, к которому оно неизбежно стремится… побочным продуктом частно-экономических установок». По мнению Маркса, такие частные установки, разумеется, порождали исключительно капитализм и вместе с ним – ростки его гибели. Но и он рассматривал этот этап не более чем часть продолжительного исторического процесса, который приведет человечество к социализму, коммунизму и далекому светлому будущему.
Таким образом, три ключевые концепции цивилизации Второй волны – борьба с природой, важность эволюции и принцип прогресса – поставляли аргументы агентам индустриализма, объясняющим и оправдывающим свои действия перед всем миром.
* * *
За этими убеждениями стояли еще более глубокие представления о реальности – набор негласных установок в отношении базовых элементов человеческого бытия. С этими элементами приходится иметь дело каждому, и каждая цивилизация дает им свое собственное описание. Любая цивилизация учит своих чад управляться с пространством и временем. Любой цивилизации требуется объяснять людям с помощью мифов, метафор или научных теорий, как устроен окружающий мир. При этом требуется дать какой-нибудь ключ к пониманию, почему это происходит так, а не иначе.
Поэтому, достигнув зрелости, цивилизация Второй волны создала совершенно новый образ реальности, основанный на отчетливых представлениях о времени и пространстве, материи и причинности. Подобрав осколки прошлого, сложив из них новую мозаику, прибегнув к экспериментам и опытам, она в корне изменила восприятие окружающего мира и повседневное поведение людей.
Программа времени
В одной из предыдущих глав мы видели, насколько распространение индустриализма зависело от синхронизации человеческого поведения с рабочим ритмом машин. Синхронизация была одним из ведущих принципов цивилизации Второй волны, и выходцы из индустриальных стран казались всем посторонним людьми, постоянно испытывающими дефицит времени и то и дело посматривающими на часы.
Чтобы привязать человеческое сознание ко времени и достигнуть синхронизации, требовалось изменить базовые представления о времени, мысленный образ времени в сознании людей. Возникла потребность в «программе времени».
Земледельческие народы, которым было важно знать, когда сеять и когда снимать урожай, научились с поразительной точностью рассчитывать длинные промежутки времени. Однако, не нуждаясь в точной синхронизации человеческого труда, крестьяне редко придумывали точные единицы измерений для коротких временных промежутков. Они, как правило, делили время не на короткие фиксированные единицы, такие как часы или минуты, а на неопределенные, неточные отрезки, обозначавшие время, необходимое для выполнения той или иной домашней работы. Крестьянин мог назвать период времени «дойкой коровы». На Мадагаскаре общепринятой единицей времени была «варка риса», а минута примерно равнялась «жарке саранчи». У англичан были в ходу «черед молитвы» – время, достаточное, чтобы прочитать «Отче наш», или более прозаичный вариант – «черед пописать».
Так как общины и деревни редко поддерживали контакты с соседями и потому что их труд не требовал таких контактов, мысленное разделение времени на единицы варьировалось от места к месту и от одного времени года к другому. Например, в Северной Европе в Средние века световой день делили на равные часы, но поскольку промежуток между восходом и закатом солнца менялся со дня на день, декабрьский «час» был короче мартовского или июньского.
Вместо расплывчатых промежутков, таких как «черед молитвы», промышленные общества нуждались в чрезвычайно точных единицах – часах, минутах и секундах. Все эти единицы необходимо было привести к общему стандарту, чтобы использовать их в любое время года и в любой общине.
Сегодня мир четко поделен на часовые пояса. Мы ведем речь о декретном времени. Пилоты всего мира используют термин «нулевой пояс», или время по Гринвичу. По международному договору Гринвич в Англии стал точкой отсчета времени на всей планете. Периодически все люди, как один, переводят свои часы на час вперед или назад, и что бы нам ни говорило наше внутреннее, субъективное ощущение времени, согласно которому оно или тянется очень долго, или мгновенно пролетает, час ныне является неизменной, стандартной единицей для всего мира.
Вдобавок цивилизация Второй волны добилась кое-чего большего, чем деление времени на более точные, стандартные отрезки. Она расположила эти отрезки на одной прямой линии, уходящей бесконечно далеко в прошлое и будущее. Она сделала время линейным.
Представление о времени как линейном процессе настолько утвердилось в нашем сознании, что тем, кто вырос в обществах Второй волны, трудно себе представить какую-либо альтернативу. Тем не менее многие доиндустриальные общества и некоторые общества Первой волны и по сей день рассматривают время не в виде прямой линии, а в виде круга. От народов майя до буддистов и индусов многие люди представляли себе время в виде повторяющихся циклов, история бесконечно шла по кругу, а люди, как представлялось, проживали все новые жизни в процессе реинкарнации.
Идея подобия времени большому кругу отражена в индуистской концепции кальпы – повторяющегося периода продолжительностью четыре тысячи миллионов лет. Каждая кальпа равна одному дню в жизни Брахмы, начинается с воссоздания сущего и заканчивается его разрушением, после чего следует новое начало. Идею цикличности времени можно найти у Платона и Аристотеля. Один из их учеников, Евдем, воображал, что с повторением цикла он снова и снова проживает одно и то же мгновение. Похожих взглядов придерживалось учение Пифагора. В своей работе «Время и человек Востока» (Time and Eastern Man) Джозеф Нидэм говорит, что «для индусов и эллинов… время циклично и вечно». Более того, в то время как в Китае господствовала идея линейного времени, представление о цикличности времени, по словам Нидэма, совершенно точно преобладало среди ранних спекулятивных философов-таоистов.
В Европе до начала индустриализации тоже существовали различные взгляды на время. «В течение всего периода Средневековья, – пишет математик Д. Д. Уитроу, – цикличное и линейное представления о времени постоянно конфликтовали друг с другом. Линейную концепцию продвигали торгово-купеческий класс и рост экономики, основанный на денежном обращении. Но пока власть была сосредоточена в руках землевладельцев, время воспринималось как изобильный резерв и ассоциировалось с неизменным почвенным циклом».
Вскоре Вторая волна набрала силу, и конфликт разрешился в пользу линейного времени. Линейный характер времени стал доминирующей точкой зрения во всех промышленных государствах Востока и Запада. Время начали рассматривать как автостраду, ведущую из далекого прошлого через настоящее в будущее, и эта концепция, чуждая миллиардам людей, живших на Земле до прихода индустриальной цивилизации, стала основой экономического, научного и политического планирования и в кабинетах директоров IBM, и в Агентстве экономического планирования Японии, и в советской Академии наук.
Следует отметить, что линейное время было предварительным условием появления индуст-реальных взглядов на эволюцию и прогресс. Линейное время придало эволюции и прогрессу пущую убедительность. Ибо, если время действительно циклично, если события повторяются, а не происходят в необратимой последовательности, это означало бы, что история тоже повторяется и эволюция с прогрессом не более чем иллюзия – тени на стене времени.
Синхронизация, стандартизация, приведение понятия о времени к линейному виду затронули коренные представления цивилизации и произвели огромные изменения в том, как люди распоряжаются временем в своей жизни. Но если трансформации подверглось понятие времени, то в интересах новой индуст-реальности потребовалось сменить обертку и для понятия пространства.
Новое оформление пространства
Еще задолго до первых проблесков цивилизации Второй волны наши далекие предки, жившие охотой, скотоводством, рыбной ловлей либо собирательством, постоянно перемещались с места на место. Гонимые голодом, холодом или экологическими бедствиями, устремляясь вслед за хорошими погодными условиями или дичью, они были истинными непоседами – путешествовали налегке, не обзаводились обременительным имуществом и далеко разбредались по всему миру. Группа из пятидесяти мужчин, женщин и детей, по некоторым оценкам, нуждалась для пропитания в угодьях площадью в шесть раз больше острова Манхэттен или, если того требовали условия, каждый год кочевала, проделывая путь в сотни миль. Они вели, выражаясь языком современных географов, пространственно-протяженный образ жизни.
В противоположность им цивилизация Первой волны вывела породу «пространственных скопидомов». Когда кочевников вытеснили аграрии, место кочевых путей заняли возделанные поля и постоянные поселения. Крестьянин не бродил без устали по огромным территориям, а сидел вместе с семьей на месте, возделывая свой крохотный надел земли в океане пространства таких размеров, что отдельный человек выглядел в сравнении с ним жалкой букашкой.
Непосредственно перед рождением индустриальной цивилизации редкие кучки крестьянских хижин были окружены широкими открытыми полями. За исключением небольшого количества купцов, ученых и солдат большинство людей проживали свою жизнь на очень короткой привязи. На рассвете они шли работать в поле, с закатом возвращались домой. Протаптывали тропинку в церковь. В редких случаях ходили в соседнее село за шесть-семь миль. Разумеется, климат и местность создавали разные условия, но, по словам историка Д. Р. Хейла, «мы, скорее всего, не сильно ошибемся, утверждая, что самое дальнее путешествие, которое в своей жизни совершали большинство людей, в среднем не превышало пятнадцати миль». Сельское хозяйство породило пространственно-ограниченную цивилизацию.
Индустриальный шторм, разразившийся в Европе в XVIII веке, воссоздал пространственно-протяженную культуру, но уже в новом, всемирном масштабе. Товары, люди, идеи перемещались за тысячи миль, огромное количество народа меняло место жительства в поисках работы. Вместо разбросанности по полям товарное производство сосредоточилось в городах. Разбухшее население теснилось в нескольких битком набитых узловых районах. Старые селения чахли и умирали. Появлялись быстро растущие промышленные центры, окруженные заводскими трубами и печами.
Столь потрясающее преображение ландшафта требовало куда более сложной координации усилий между городом и деревней. В городские конгломераты должны были поступать продовольствие, энергия, люди и сырье, а оттуда выходить готовые товары, моды, идеи и финансовые решения. Эти два потока были тщательно интегрированы и скоординированы по времени и в пространстве. Внутри самих городов требовалась дальнейшая специализация пространства. В прежней аграрной системе типичными материальными структурами были церковь, дворец местной знати, какие-нибудь жалкие лачуги, таверна или монастырь. Цивилизация Второй волны с ее куда более изощренным разделением труда требовала множества новых специализированных типов пространственных объектов.
Вскоре архитекторы занялись созданием офисных зданий, банков, полицейских участков, фабрик, вокзалов, универмагов, тюрем, пожарных депо, приютов и театров. Такую уйму пространственных объектов необходимо было логически и функционально связать друг с другом. Местоположение заводов, маршруты от дома до мастерской, наличие запасных железнодорожных путей рядом с доками и автобазами, удобное размещение школ и больниц, прокладка водопроводных труб, создание электростанций, распределительных сетей, газопроводов и телефонных коммутаторов – все это требовало пространственной координации. Пространство приходилось расписывать по нотам, как фугу Баха.
Эта невероятная скоординированность специализированных отрезков пространства, необходимая для того, чтобы поставлять нужных людей в нужное место и в нужное время, стала пространственным аналогом синхронизации по времени. По сути, она и была синхронизацией, принявшей пространственную форму. Ибо для функционирования индустриального общества требовалась тщательная структуризация как времени, так и пространства.
По аналогии с потребностью в более точных, стандартизированных единицах измерения времени возникла нужда в более точных взаимозаменяемых единицах измерения пространства. До начала промышленной революции, когда время делили на неуклюжие отрезки вроде «череда молитвы», единицы пространства тоже представляли собой полную неразбериху. Например, в средневековой Англии один руд мог составлять от шестнадцати с половиной до двадцати четырех футов. В XVI веке в качестве способа определения одного руда предлагалось выбрать наобум шестнадцать мужчин, возвращавшихся из церкви, и выстроить их в ряд одного за другим так, чтобы соприкасались их левые ступни, после чего измерить расстояние. Использовались и более расплывчатые единицы отсчета, например, «день верхом», «час пешком» или «полчаса наметом».
Когда Вторая волна начала менять подход к труду, а невидимый раскол создал растущий рынок, подобную неопределенность больше нельзя было терпеть. С ростом торговли все больше увеличивалась потребность в точной навигации, и государства предлагали огромную награду тому, кто изобретет лучшие способы прокладки курса для торговых кораблей. На суше тоже постепенно внедрялись все более совершенные и точные единицы измерений.
Требовалось очистить и рационализировать путаные, противоречивые, беспорядочные местные таможенные правила, законы и торговые обычаи, задававшие тон в цивилизации Первой волны. Неточность и отсутствие стандартов измерений ежедневно доставляли головную боль производителям и нарождающемуся купеческому сословию. Это объясняет тот энтузиазм, с каким французские революционеры на заре индустриальной эпохи принялись вводить метрическую систему мер как стандартный способ измерения расстояний и календарь как стандарт измерения времени. Они сочли этот вопрос настолько важным, что он был поднят на первом же заседании Национального конвента, созванного для провозглашения республики.
Вторая волна также принесла с собой повсеместное внедрение и уточнение понятия пространственных границ. До XVIII века империи нередко не имели четко определенных рубежей. Так как огромные площади вообще не имели населения, никто не думал о границах. По мере роста численности населения, торговли и появления первых фабрик в Европе многие государства начали систематически составлять карты своей территории. Были четче определены таможенные зоны. Земельная собственность местных властей и частных лиц определялась, маркировалась, огораживалась и регистрировалась с бо́льшим тщанием. Карты стали более подробными, содержательными и унифицированными.
Возникло новое представление о пространстве, в точности соответствовавшее представлению о времени. Подобно тому как пунктуальность и планирование все больше размечали и делили время на сроки исполнения, такое же разделение происходило и в пространственной области. Даже обретение временем линейного характера нашло свой аналог в пространстве.
В доиндустриальном обществе путешествие по прямой линии, будь то морем или сушей, являлось аномалией. Сельские дороги, пути, протоптанные коровами, тропы индейцев огибали выступы земного рельефа. Многие стены и заборы извивались, выпячивались и делали повороты под разнообразными углами. Улицы средневековых городов упирались друг в друга, петляли, змеились и выписывали кренделя.
Государства Второй волны не только заставили ходить прямым курсом корабли, но и построили железные дороги, чьи сверкающие рельсы параллельными прямыми линиями тянулись на сколько хватало глаз. Как заметил американский чиновник-плановик Грейди Клей, железнодорожные линии (сам термин выдает их характер) стали осями, на которых выросли построенные по сетчатому шаблону города. Прямоугольная схема застройки, сочетающая прямые линии, прочерченные под углом девяносто градусов, придавали ландшафту линейный, равномерный облик, характерный для машин.
В старых городских районах по сей день хорошо заметны переплетения улиц и площадей, концентрические круги и сложные перекрестки. В тех районах, что были построены позже, в более индустриализированный период, они часто уступают место четким прямоугольным кварталам. Это же можно сказать о целых регионах и странах.
Даже земельные угодья с приходом механизации перешли на линейные очертания. Крестьяне доиндустриальной эпохи пахали на волах, прокладывая неровные, кривые борозды. Крестьянин старался не останавливать волов и в конце борозды делал широкий поворот, позволяя им выписывать всевозможные зигзаги. Сегодня же в иллюминатор самолета можно увидеть прямоугольные поля с проложенными, как по линейке, бороздами.
Сочетание прямых линий и прямых углов можно найти не только на улицах или в полях, но и в личном пространстве, в котором сегодня обитают люди, – в их жилище. Архитектура промышленной эпохи практически распрощалась с закругленными стенами и непрямыми углами. На смену помещениям неправильной формы пришли чистенькие прямоугольные боксы, высотные здания протянули вертикальные линии до небес, а их окна создают шаблон из линий и прямоугольников на широких стенах, выходящих на прямые улицы.
Таким образом, наши концепция и ощущение пространства, подобно концепции и ощущению времени, постепенно приобрели линейный характер. Во всех промышленных странах, как капиталистических, так и социалистических, на Западе и на Востоке, специализация архитектурного пространства, подробные карты, использование единых, точных единиц измерения и прежде всего линейность стали культурной константой, базой новой индуст-реальности.
Bepul matn qismi tugad.