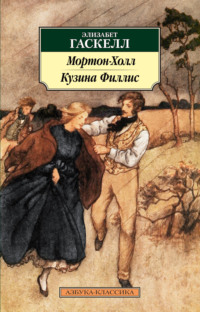Kitobni o'qish: «Мортон-Холл. Кузина Филлис»
Elizabeth Gaskell
MORTON HALL. COUSIN PHILLIS
© А. В. Глебовская, перевод, 2024
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

Элизабет ГАСКЕЛЛ
1810–1865
Кузина Филлис
Часть первая
Впервые покинуть отчий дом и поселиться вдали от родителей – большое событие в жизни юноши. Невозможно описать, как доволен и горд я был в свои семнадцать, став хозяином треугольной каморки над кондитерской в Элтеме1, главном городе одного из наших северных графств! В тот день после обеда отец оставил меня там одного, на прощание сделав несколько простых по сути, но внушительных по тону наставлений, дабы я не сбился с пути в своей новой, самостоятельной жизни. Меня определили в помощники к инженеру, подрядившемуся проложить короткую железнодорожную ветку из Элтема в Хорнби. Место я получил стараниями отца, и по статусу оно было выше того положения, какое занимал он сам, вернее сказать – выше того, какое обыкновенно занимает человек его происхождения и воспитания, ибо отец мой в глазах сограждан с каждым годом становился все более заметной и уважаемой фигурой. Механик по профессии, он был прирожденный изобретатель, невероятно настойчивый в достижении цели, благодаря чему сумел внедрить несколько важных усовершенствований для железных дорог. Изобретал он отнюдь не в погоне за прибылью, хотя от вознаграждения, которое ему по праву причиталось, благоразумно не отказывался. Вы спросите, что, если не деньги, побуждало его воплощать в жизнь свои замыслы? Отец объяснял это просто: пока идея не реализована, она не дает ему покоя ни днем ни ночью. Впрочем, довольно о моем дражайшем батюшке. Добавлю только, что счастлива та страна, где много подобных ему.
Отец был потомственный и убежденный индепендент2. Именно этим обстоятельством объясняется его решение поместить меня в комнатушке над кондитерской: лавку держали родные сестры нашего приходского пастора, и одно это должно было уберечь мою нравственность от соблазнов города, когда у меня появится возможность безнадзорно распоряжаться собой и своим жалованьем – без малого тридцать фунтов в год!
Поездке в Элтем отец отвел целых два драгоценных дня и даже надел по такому случаю свое лучшее платье. Сперва он препроводил меня в контору, где познакомил с моим новым начальником (который считал себя обязанным отцу за какую-то своевременную техническую подсказку), затем мы нанесли визит пастору небольшой элтемской общины индепендентов, после чего отец спешно простился со мной. Как ни жаль было расставаться, я втайне радовался, что отныне сам себе господин. Распаковав плетеный короб с провизией, которую собрала для меня матушка, и обнюхав горшочки с припасами, я ощутил себя полноправным хозяином несметных богатств, которыми можно распоряжаться по собственному усмотрению. Прикидывая в уме, на сколько потянет домашняя ветчина, я уже предвкушал нескончаемые пиршества, но главное удовольствие, повторюсь, мне доставляла мысль, что всеми этими яствами я могу лакомиться когда захочу, без спросу и оглядки на других, пусть даже согласных мне потакать. Съестные припасы я убрал в маленький угловой буфет: моя каморка сплошь состояла из углов, и, соответственно, все помещалось в углу – камин, окно, шкаф, – а в центре помещался только я сам, да и то с трудом. Откидной стол примостился прямо под окном, выходившим на рыночную площадь, так что моим предполагаемым ученым занятиям, ради которых отец раскошелился на жилье с «гостиной», грозила нешуточная опасность – попробуйте не отвлечься от книг на кипучую жизнь уличной толпы! Завтракать и обедать я должен был вместе с двумя престарелыми сестрами Доусон в их крошечной столовой позади треугольной лавки внизу, а вечерний чай или ужин устраивать самостоятельно, поскольку никто не знал наперед, в какое время я буду приходить со службы.
Эйфория, вызванная горделивой радостью недавно оперившегося юнца, вскоре сменилась тоскливым чувством одиночества. Я был единственным ребенком в семье и никогда раньше не жил вдали от дома; и, хотя на словах отец был сторонником сурового правила: «Кнута пожалеешь – испортишь дитя»3, он всем сердцем любил меня и, сам того не замечая (если бы заметил, первый осудил бы себя), обходился со мной исключительно мягко. Матушка же, напротив, никогда не высказывалась в пользу жестких мер, однако держала меня в строгости; наверное, просто потому, что мои детские проказы досаждали ей больше, чем ему… Так или иначе, я хорошо помню, как горячо она заступалась за меня повзрослевшего, когда однажды я повел себя, на взгляд отца, неподобающим образом – нарушил бескомпромиссные отцовские принципы.
Но сейчас речь не об этом. Я ведь намерен рассказать о кузине Филлис, а сам еще даже не объяснил, кто она такая.
В первые месяцы моей жизни в Элтеме новое чувство ответственности за порученное дело и столь же новое состояние независимости целиком захватили меня. В восемь утра я приступал к работе в конторе, в час шел домой обедать и к двум возвращался на рабочее место. В отличие от утренних, послеобеденные часы складывались по-разному – иногда я продолжал заниматься бумагами, а иногда сопровождал главного инженера мистера Холдсворта на тот или иной участок строящейся линии между Элтемом и Хорнби. Последнее доставляло мне неизмеримо большее удовольствие. Во-первых, эти поездки вносили приятное разнообразие в повседневную рутину; во-вторых, позволяли обозревать окружающие пейзажи (очень живописные, с обилием дикой природы); и в-третьих, предоставляли мне возможность насладиться обществом мистера Холдсворта, которого я по-мальчишески боготворил. Это был молодой человек лет двадцати пяти, стоявший значительно выше меня по рождению и образованию; к тому же он успел поездить по Европе и в его усах и бакенбардах угадывался иностранный лоск. Я очень гордился, что меня видят в компании с ним. Во многих отношениях он и в самом деле был превосходный малый, мне повезло попасть в его руки, другой начальник мог оказаться куда как хуже.
Каждое воскресенье по настоянию отца я писал домой отчет обо всем, что произошло за истекшую неделю; но жизнь моя была настолько однообразна, что подчас я не знал, чем заполнить письмо. По воскресеньям я дважды в день посещал молитвенное собрание в темном узком переулке – слушал заунывные гимны, и долгие молитвы, и нескончаемую проповедь. В малочисленной элтемской общине я был лет на двадцать моложе самых молодых из прихожан. Иногда наш пастор мистер Питерс после второй службы звал меня к себе на чай. Как же я тяготился этой честью! Весь вечер сидеть на краешке стула и отвечать на многозначительные вопросы, задаваемые утробным басом, пока часы не пробьют восемь (время домашнего молебна), и тогда в дверях, разглаживая на животе передник, появится хозяйка миссис Питерс в сопровождении единственной служанки… И пошло-поехало: сперва проповедь, потом чтение главы из Писания, потом предлинная импровизированная молитва… Наконец какой-то внутренний голос шепнет мистеру Питерсу, что пора ужинать, и мы поднимаемся с колен, преисполненные единственного чувства – голода! За трапезой хозяин позволял себе немного опроститься и отпускал одну-другую тяжеловесную шутку, желая, вероятно, показать мне, что духовные пастыри – тоже люди. В десять я мог идти домой, в свою треугольную каморку, и там наконец-то беззастенчиво зевать, предвкушая долгожданный сон.
Дина и Ханна Доусон (так значились их имена на вывеске над входом в лавку, хотя я всегда звал их соответственно мисс Доусон и мисс Ханна) считали, что приглашение домой к мистеру Питерсу – величайшая честь, какой только может удостоиться юноша вроде меня: обладая столь великой привилегией, надо быть поистине современным Иудой Искариотом, чтобы не заслужить спасения души! А вот насчет моего тесного общения с мистером Холдсвортом… Тут сестры сокрушенно качали головой. Меня же переполняла благодарность к этому джентльмену. И однажды, отрезая сочный ломоть ветчины, я размечтался, как славно было бы пригласить его к себе на чай, особенно теперь, когда под окном шумит ежегодная элтемская ярмарка и площадь пестрит разноцветными палатками, каруселями, странствующим зверинцем и прочими провинциальными увеселениями, на которые я в свои семнадцать лет смотрел раскрыв рот. Но стоило мне издалека завести разговор о своем желании, как мисс Ханна мигом раскусила меня, осудив греховные зрелища и прибавив что-то про тех, кого вечно тянет валяться в грязи4; потом она ни с того ни с сего перескочила на Францию и богомерзких французов, растлевающих всех, кто хоть однажды ступил на их землю. Сообразив, что ее праведный гнев неуклонно устремляется к одной цели и что цель эта – мистер Холдсворт, я почел за лучшее поскорее доесть свой завтрак и убраться подальше. Вот почему через несколько дней меня так изумил случайно подслушанный разговор двух почтенных сестриц: обе радостно подсчитывали доход от ярмарочной недели и соглашались друг с другом, что кондитерская на углу рыночной площади – очень неплохая вещь. Однако позвать к себе мистера Холдсворта я все же не решился.
О первом годе моего пребывания в Элтеме рассказывать, в сущности, больше нечего. Но в канун девятнадцатилетия, когда я начал подумывать, не отпустить ли и мне бакенбарды, состоялось мое знакомство с кузиной Филлис, о чьем существовании я до той поры ни сном ни духом не ведал. Мы с мистером Холдсвортом на целый день уехали в Хитбридж и трудились не покладая рук. Хитбридж находится неподалеку от Хорнби, из чего легко можно заключить, что к тому времен наша ветка была проложена уже больше чем наполовину. Помимо всего прочего, вылазка за город давала столь необходимый мне материал для еженедельных писем домой, и на сей раз я много места уделил описанию природы (обычно такой грех за мной не водился), поведав отцу о зарослях болотного мирта5 и полях мха – о зыбкой почве, по которой нужно было тянуть железную дорогу; о том, как мы с мистером Холдсвортом ходили обедать в близлежащую живописную деревушку (собственно Хитбридж), поскольку нам пришлось заночевать и остаться на второй день; и о том, что я надеялся еще не раз повторить свое путешествие, ибо коварная местная почва заводила в тупик наших инженеров: стоило им приподнять один конец полотна, как другой немедленно проваливался вниз. (Из сказанного несложно заметить, что меня мало заботили интересы акционеров; от нас лишь требовалось обеспечить устойчивость новой ветки до того момента, пока железнодорожный узел не введен в строй.) Все это я изложил подробнейшим образом, радуясь, что наконец-то нашлось чем заполнить пустые страницы.
Из родительского ответа я узнал, что троюродная сестра моей матери замужем за пастором индепендентской общины Хорнби, и звать его Эбенезер Холмен, и живет он в той самой деревне Хитбридж, которую я описал, по крайней мере так полагает моя матушка. Сама она никогда не встречалась с кузиной Филлис Грин, но, по мнению моего батюшки, вышеупомянутая кузина – в каком-то смысле богатая наследница, ибо ее отец Томас Грин владеет полусотней акров земли и все его состояние когда-нибудь перейдет к единственной дочери. По-видимому, название Хитбридж сильно возбудило родственные чувства матушки; и отец передал мне ее просьбу: когда я снова окажусь в тех краях, навести справки о преподобном Эбенезере Холмене и, ежели он и впрямь живет там, спросить, не женился ли он в свое время на девице Филлис Грин, и ежели на оба вопроса мне дадут утвердительный ответ, то пойти к нему и отрекомендоваться сыном Маргарет Мэннинг, урожденной Манипенни. Я проклинал себя и тот час, когда обмолвился о Хитбридже. Знать бы наперед, чем это обернется для меня! Одного пастора-индепендента более чем достаточно для любого нормального человека, ворчал я про себя, но мне выпала особая честь не только знать мистера Доусона (то бишь каждое воскресное утро штудировать с ним катехизис), пока я жил в отчем доме, но еще и выказывать почтение старику Питерсу в Элтеме и по пять часов кряду сидеть тише воды, ниже травы в ожидании обещанного чая. И вот теперь, когда я полной грудью вдохнул вольного воздуха Хитбриджа, мне приказано разыскать очередного пастора, который, чего доброго, тоже начнет устраивать мне допрос и читать наставления – или заманит к себе «на чаек»! Кроме того, я совсем не хотел навязываться незнакомым людям, никогда, быть может, не слыхавших фамилию моей матери (престранную, к слову сказать, – Манипенни!)6; но даже если они что-то слышали, скорее всего, им не было никакого дела до моей матушки, как и ей до них, пока мне не стукнуло в голову обмолвиться про Хитбридж.
При всем том я не собирался идти наперекор родителям из-за такого пустяка, хоть и крайне досадного для меня. Вскоре дела снова привели нас в Хитбридж, и за обедом в тесной трапезной деревенского трактира я улучил минуту, когда мистер Холдсворт зачем-то вышел, и задал румяной девчонке-подавальщице те самые вопросы, которые мне велели задать. Либо я неясно выразился, либо девчонка была глупа как пробка: сказала, что ничего не знает, но спросит у хозяина. Засим, разумеется, появился трактирщик, пожелавший услышать из первых уст, чего мне угодно. Пришлось повторить свои вопросы, уже в присутствии мистера Холдсворта, который, думаю, не придал бы им никакого значения, если бы я не краснел, не путался и не запинался на каждом слове – если бы, короче говоря, сам не выставил себя дурнем.
Трактирщик подтвердил, что ферма с названием «Надежда» имеется в Хитбридже, и владеет ею мистер Холмен, пастор-индепендент, и жену его вроде бы зовут Филлис. Ее девичья фамилия Грин – это факт.
– Родственники? – поинтересовался мистер Холдсворт.
– Нет, сэр… просто дальняя родня моей матери. Ну да, выходит, что родственники. Только я их в глаза не видывал.
– До фермы отсюда рукой подать, – подойдя к окну, услужливо сообщил трактирщик. – Вон, гляньте-ка, за той клумбой с мальвой терновник в саду, видите? А выше пучок чудны́х каменных труб. Это и есть их «Надежда». Ферма старая, но Холмен ведет свое хозяйство как надо.
Мистер Холдсворт проворнее меня встал из-за стола и подошел к окну посмотреть. Услыхав последнюю реплику трактирщика, он с улыбкой обернулся ко мне:
– Согласитесь, крепкий хозяин – редкая птица среди сельских священников!
– Прошу прощения, сэр, но я уж скажу по-своему:пастор Холмен! Для нас священник – служитель Англиканской церкви, и нашему настоятелю обидно было бы слышать, если бы кто-то назвал этим словом раскольника. Так вот, пастор Холмен с хозяйством управляется не хуже заправского фермера. Пять дней в неделю трудится на себя и два – на Господа Бога; и еще неизвестно, какому труду отдает больше сил. По субботам и воскресеньям он пишет проповеди и посещает свою паству в Хорнби, а в понедельник с пяти утра встает за плуг и пашет, как простой неученый крестьянин… Но у вас обед стынет, джентльмены!
Мы вернулись за стол, но через некоторое время мистер Холдсворт нарушил молчание:
– На вашем месте, Мэннинг, я бы навестил родственников. Сходите хоть поглядите на них, пока мы дожидаемся сметы от Добсона, а я посижу в саду, выкурю сигару.
– Благодарю, сэр. Но я их совсем не знаю и не уверен, что хочу узнать.
– Тогда к чему было расспрашивать о них? – Он быстро взглянул на меня. (Мистер Холдсворт не признавал бесцельных слов и поступков.) Я ничего не ответил, и он продолжил: – Ну же, решайтесь! По крайне мере, посмо́трите, что представляет собой этот пастор-пахарь. Потом расскажете, любопытно будет послушать.
Я привык во всем подчиняться ему, его авторитет и влияние были столь велики, что я беспрекословно отправился выполнять поручение, хотя мне легче было бы взойти на эшафот. Трактирщик, по обычаю всех деревенских трактирщиков навостривший уши, проводил меня к выходу и несколько раз повторил, куда и как идти, словно я мог заблудиться по дороге длиной двести ярдов! Но я терпеливо слушал его указания, радуясь любой отсрочке, чтобы собраться с духом, прежде чем ни с того ни с сего предстать перед незнакомыми людьми.
Итак, я нехотя побрел по проселочной дороге, сшибая прутиком верхушки сорной травы, и за первым или вторым поворотом увидел перед собой ферму. От тенистого, поросшего травой проселка фермерский дом был отделен садом; впоследствии я узнал, что у домочадцев он назывался «двор» – вероятно, потому, что был обнесен низкой стеной с решеткой поверху. Большие двустворчатые ворота с колоннами, увенчанными каменными шарами, соединялись с парадным входом мощеной дорожкой. Однако обитатели дома, как правило, не пользовались ни импозантными воротами, ни парадной дверью; вот и в тот день ворота оказались заперты (хотя дверь была открыта настежь). Я пошел в обход вдоль ограды по едва заметной в траве тропке, миновал каменный монтуар7, поросший очитком и желтой хохлаткой, и наконец увидел другую дверь (как я потом узнал, хозяин прозвал ее «викарной», а парадный – «помпезный» – вход величал «ректорским»)8. Я постучался. Мне открыла высокая девушка примерно моего возраста; она молча смотрела на меня, дожидаясь моих объяснений – кто я и зачем пожаловал. Я как сейчас вижу ее – мою кузину Филлис. Она стоит передо мной в лучах предвечернего солнца, которое разрезает полумрак у нее за спиной косой полоской света.
На ней было простое синее платье с длинными рукавами и вырезом под горло; края рукавов и горловину украшали скромные оборки из той же материи, оттенявшие белую кожу – до того белую, что и сказать нельзя! Ни раньше, ни позже я ни у кого не видел такой белизны. Волосы у нее были светло-желтые, с золотистым отливом. Она смотрела на меня прямым, открытым взглядом, и в ее крупных невозмутимых глазах читался лишь закономерный вопрос, но отнюдь не испуг при виде незнакомца. Помню, я удивился, что такая взрослая и рослая барышня носит поверх платья маленький детский передник.
Пока я соображал, как лучше ответить на ее немой вопрос, у нее за спиной раздался женский голос:
– Филлис, кто там? Если пришли за пахтой, пусть обождут у черного хода.
Я решил, что правильнее будет говорить не с девушкой, а с обладательницей этого голоса, поэтому молча шагнул вперед и стал на пороге, снявши с головы шляпу. За порогом находился холл, или, скорее, некая общая комната, где семья собирается по вечерам. Маленькая бойкая женщина лет сорока утюжила муслиновые шейные платки возле высокого, увитого плющом окна. Хозяйка смерила меня подозрительным взглядом.
– Меня зовут Пол Мэннинг, – представился я, но тут же понял, что мое имя ни о чем ей не говорит. – Моя матушка в девичестве носила фамилию Манипенни… Маргарет Манипенни.
– Ну конечно! Она же вышла за Джона Мэннинга из Бирмингема! – всплеснула руками миссис Холмен. – Так вы ее сын? Садитесь, садитесь! Дайте посмотреть на вас. Подумать только, у Маргарет взрослый сын! Кажется, она сама только вчера играла в куклы. Хотя… когда это было? Ох, да уж двадцать пять лет назад! Что же привело вас в наши края?
Она тоже уселась, словно под тяжестью любопытства, чтобы услышать от меня про все двадцать пять лет, миновавшие с их последней встречи. Ее дочь Филлис вернулась к своему вязанию (помнится, это был длинный серый мужской чулок). Работала она споро, не глядя на спицы, и меня не оставляло ощущение, что ее глубокие серо-голубые глаза прикованы ко мне, но когда я украдкой взглянул на нее, она внимательно рассматривала что-то на стене над моей головой.
Расспросив меня обо всем, что ее интересовало, миссис Холмен протяжно вздохнула и покачала головой:
– До сих пор не верится, что к нам пожаловал сын Маргарет Манипенни! Жаль, пастора нет сейчас дома. Филлис, ты не знаешь, на каком поле сегодня работает отец?
– На пятиакровом. Там началась жатва.
– Коли так, он будет недоволен, если за ним послать. Иначе непременно познакомила бы вас. Пятиакровое поле далековато отсюда. Но я не отпущу вас из дому, пока не выпьете рюмочку вина с кексом. Говорите, у вас мало времени? А то останьтесь, пастор обычно заглядывает домой около четырех, когда у работников перерыв.
– Да, мне пора… Я и так уже засиделся.
– Ладно. Филлис, возьми-ка ключи. – Мать шепнула дочери на ухо какие-то распоряжения, и та вышла за дверь.
– Выходит, она кузина мне? – уточнил я, хотя это было очевидно, просто я не знал, как иначе перевести разговор на девушку.
– Да… Филлис Холмен. Одна она у нас… теперь.
По этому «теперь» и облачку печали, на миг затуманившему ее взор, я догадался, что у четы были и другие дети.
– А сколько лет кузине Филлис? – спросил я, рискнув назвать ее по имени и тотчас оробев от своей фамильярности.
Однако миссис Холмен ничего не имела против и дала мне исчерпывающий ответ:
– В прошлый Майский день исполнилось семнадцать… Ой, пастор запрещает упоминать Майский праздник9, – спохватилась она, боязливо озираясь по сторонам. – Первого мая Филлис исполнилось семнадцать, – повторила она с учетом необходимой поправки.
«А мне в следующем месяце исполнится девятнадцать», – сам не знаю почему подумал я, и тут вошла Филлис с подносом.
– Мы держим служанку, – доложила мне миссис Холмен, чтобы я не подумал, будто ее дочь всегда прислуживает гостям, – просто сегодня она занята – сбивает масло.
– Мне это совсем не в тягость, мама, – заверила Филлис спокойным звучным голосом.
Я почувствовал себя ветхозаветным персонажем – как бишь его звали? – которому прислуживает хозяйская дочь. А может быть, я всего лишь Авраамов раб, которому Ревекка дала напиться из колодца? И я подумал, что Исаак много потерял, когда не сам отправился добывать себе жену10. Разумеется, у Филлис не могло возникнуть подобных мыслей. У этой статной, грациозной молодой женщины была наивная душа ребенка, под стать ее полудетскому наряду.
Как меня учили, я поднял тост за здоровье моей новообретенной родственницы и ее мужа, а после и за здоровье кузины Филлис, слегка поклонившись в ее сторону. От смущения я не решился посмотреть на нее и проверить, как она приняла мои слова.
– Теперь мне уже точно пора, – сказал я, вставая со стула.
Ни одна из дам не пригубила вина, хотя миссис Холмен из вежливости отломила кусочек кекса.
– Жаль, что вы не застали пастора, – повторила она и тоже встала.
Я же втайне радовался, что не застал его. В ту пору я не жаловал пасторов, а этот был особенно подозрителен, если запрещал вслух упоминать Майский день. Однако в дверях миссис Холмен взяла с меня слово приехать снова в ближайшую субботу и остаться у них на воскресенье – тогда-то я уж определенно не разминусь с пастором!
– Лучше в пятницу, если сможете! – крикнула она мне вслед, стоя в проеме «викарной» двери и рукой прикрывая глаза от низкого вечернего солнца.
Кузина Филлис не двинулась с места. В дальнем углу затененной плющом комнаты разливалось волшебное сияние от ее золотистых волос и ослепительной белой кожи. Она только посмотрела на меня и невозмутимо произнесла «до свидания».
К моему возвращению мистер Холдсворт уже впрягся в работу, ежесекундно отдавая распоряжения строителям, но, когда выдалась свободная минута, поинтересовался:
– Ну что, Мэннинг, как вам ваша новая родня? Как совмещаются в одном лице землепашец и проповедник? Если этот ваш пастор крепок не только верой, но и делом, я готов его уважать.
Он был слишком занят, чтобы внимательно слушать мой ответ. К тому же ответил я с заминкой, нарочито уклончиво, упирая главным образом на приглашение явиться снова.
– Ну разумеется, поезжайте… В пятницу, если хотите. Почему бы и не на этой неделе? Вы заслужили отдых, дружище.
Мне совсем не хотелось ехать на день раньше и тем растягивать свой визит, но, когда наступила пятница, я неожиданно для себя обнаружил, что еще меньше мне хочется оставаться в Элтеме, поэтому я воспользовался разрешением мистера Холдсворта и отправился на ферму, прибыв туда уже под вечер, позже, чем в прошлый раз. Викарная дверь была открыта. Стояла мягкая сентябрьская погода, за день солнышко так прогревало воздух, что на улице казалось теплее, чем в доме, хотя в камине на раскаленных углях медленно тлело толстое полено. За минувшие дни листья вьюна за окном стали чуть желтее и на некоторых появилась сухая бурая кромка. Миссис Холмен сменила утюг на швейную иглу и, устроившись возле крыльца, починяла рубашку. Филлис по-прежнему что-то вязала в своем углу – можно было подумать, будто она всю неделю не вставала с места. На заднем дворе разгуливали курицы-пеструшки, выклевывая из земли какие-то зерна; поблескивали дочиста вымытые и развешанные кверху дном большие молочные бидоны. Передний двор-сад утопал в цветах – они заползали на низкую стену ограды и каменный монтуар, а часть самосевом проросла в траве по обеим сторонам тропы к черному ходу. А запах!.. Наверное, мой выходной костюм на месяц вперед пропитается ароматами шиповника и ясенца, невольно подумалось мне. Время от времени миссис Холмен запускала руку под крышку корзинки, стоявшей у ее ног, и бросала пригоршню зерна голубям, которые нетерпеливо ворковали, гукали, хлопали крыльями и перепархивали с места на место в ожидании очередной порции угощения.
Завидев меня, хозяйка поднялась мне навстречу.
– Голубчик, вот это славно… это по-родственному! – повторяла она, горячо пожимая мне руку. – Филлис, кузен Мэннинг пришел!
– Пожалуйста, зовите меня просто Пол, – попросил я. – Дома все зовут меня по имени. По фамилии – только в конторе.
– Ну, Пол так Пол. Я уже и комнату для вас приготовила. Так и сказала пастору: «Приедет он в пятницу или нет, а комнату я приготовлю». А пастор ответил, что ему надо быть на Ясеневом поле, приедете вы или нет. Но он обещал вскорости вернуться – узнать, не появились ли вы. Идемте, я провожу вас в комнату, приведете себя в порядок с дороги.
Когда я снова спустился, мне показалось, что миссис Холмен не знает, как меня занять; возможно, ей просто было скучно со мной, а может быть, я помешал каким-то ее планам. Так или иначе, она кликнула Филлис, велела дочери надеть капор и прогуляться со мной до Ясеневого поля, к отцу. Мы подчинились. Мне хотелось произвести на девушку благоприятное впечатление – и одновременно хотелось, чтобы она была поменьше ростом, хотя бы не выше меня! Словом, я разволновался, и, пока гадал, с чего начать беседу, Филлис сама заговорила со мной:
– Полагаю, вы почти все дни проводите в трудах, кузен Пол.
– Да, в конторе нужно быть к половине девятого, днем перерыв на обед, и через час снова за дело – до восьми или девяти.
– Наверное, времени для чтения почти не остается.
– Да, почти, – согласился я, внезапно осознав, что не всегда с пользой провожу свой досуг.
– Мне тоже не хватает времени. Отец привык вставать за час до выхода в поле, но мама не велит мне подниматься в такую рань.
– А моя матушка вечно будит меня спозаранку, не дает вволю поспасть.
– Когда же вы встаете?
– Ох!.. В половине седьмого! Правда, не каждый день, – уточнил я, припомнив, что за все прошлое лето я только дважды поднимался в такой час.
Она повернула голову и пристально посмотрела на меня:
– Отец встает в три. И мама вставала с ним, пока не заболела. Я сплю до четырех.
– В три! Но для чего, что ему делать в такую пору?
– Как «что делать»? Перво-наперво молитва, духовное упражнение в своей комнате; затем нужно позвонить в большой колокол – созвать людей на дойку; потом разбудить Бетти, нашу служанку. Обычно он еще сам задает корм лошадям, потому что наш конюх Джем уже старик и отец не хочет лишний раз его беспокоить… Заодно осмотрит у лошадок ноги и плечи, проверит подковы, постромки, торбы с сеном и овсом – все, что важно для работы в поле. Может и кнут поправить, если потребуется. Затем проведает свиней, убедится, что они накормлены, заглянет в чаны с помоями… И наконец составит списки – чего и сколько надо приготовить для пропитания людей и живности, чем пополнить запасы топлива. Только после этого, если останется немного времени, отец идет домой и мы с ним вместе читаем – всегда по-английски; латынь оставляем на вечер, чтобы насладиться ею без спешки. В положенный час отец созывает людей на завтрак, собственноручно нарезает им хлеба и сыра, напоминает домашним заполнить свежей водой их деревянные бутылки и отправляет «ребят» на работы. В половине седьмого мы остаемся одни и садимся завтракать… Смотрите, отец вон там! – воскликнула она, указывая на человека в рубашке, который был на голову выше обоих своих спутников. Вид нам частично заслоняла листва ясеней, окаймлявших поле, и я подумал, что обознался: в этом работнике богатырского роста и телосложения я не мог разглядеть ничего общего с обликом смиренного благочестивого пастора, каким я его себе представлял. Однако это и был преподобный Эбенезер Холмен собственной персоной.
Он издали кивнул, завидев нас на жнивье, и я ожидал, что он подойдет поздороваться, но он продолжал отдавать какие-то распоряжения и в нашу сторону не смотрел. Я сразу отметил, что дочь явно пошла в отца, а не в мать, – унаследовала и его стать, и белую кожу; только у него лицо обветрилось и задубело, а у нее сохранило шелковистую гладкость и блеск. Светлые, некогда желтоватые, как солома, волосы пастора теперь густо поседели. Но в его случае седина не означала упадка сил. Честно говоря, я впервые встретил такого ладно скроенного силача: мощная грудь, сухие бедра, великолепно посаженная голова… Тем временем мы сами приблизились к нему. Он оборвал себя на полуслове и сделал шаг навстречу, протягивая руку мне, но обращаясь к Филлис:
– Вижу, дочка, вижу… Кузен Мэннинг, я полагаю? Обождите минуту, молодой человек, сейчас надену сюртук, чтобы приветствовать вас по всей форме. Сейчас, только… Нед Холл! Без дренажной канавы здесь не обойтись. Не земля, а мокрая глина, вся слиплась. Давай-ка мы с тобой займемся этим в понедельник… Прошу прощения, кузен Мэннинг… Да, вот еще, на доме старика Джема прохудилась крыша. Завтра, пока я буду занят, сможешь ее поправить. – И вдруг, резко сменив тон своего раскатистого баса, так что в голосе зазвучали совсем другие ноты, куда больше подобающие проповеднику и настраивающие на молитвенный лад, неожиданно прибавил: – А теперь споемте «Единогласно славим» на мотив «Ефремовой горы»11.
Пастор приподнял над землей лопату и начал отбивать ею такт. В отличие от меня, оба работника знали слова и мелодию. О Филлис и говорить не приходится: ее звучный голос уверенно вторил ведущему басу отца. Крестьяне подтягивали чуть менее смело, но довольно стройно. Заметив мое молчание, Филлис пару раз бросила на меня удивленный взгляд. Что я мог поделать? Мы впятером стояли посреди сжатого поля с обнаженными головами (Филлис не в счет), на желто-буром жнивье высились скирды хлеба, поодаль с одной стороны темнел лес, где громко ворковали дикие голуби, с другой протянулась ажурная полоса вязов, сквозь которую проглядывала голубая даль. Даже знай я слова и мелодию вечернего песнопения, скорее всего, не смог бы выдавить из себя ни звука: в горле стоял ком от охватившего меня небывалого чувства.