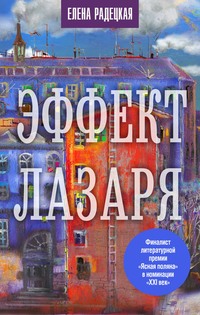Kitobni o'qish: «Эффект Лазаря»
1
Третьего мая, в девять вечера, когда позвонила Сусанка, я моталась по квартире совершенно несчастная, в пижаме, с полотенцем на голове и с пустым бокалом в руке. На улице было светло, солнце и не думало заходить, начинались белые ночи. В форточку веяло весной, а я чувствовала себя усталой, растерянной, одинокой и никому не нужной.
День провела у свекрови: с утра – рынок, потом мытье окна и балконной двери, протирка полов и наконец, самое трудное – выкупать полупарализованного свекра. Свекровь я всегда любила, но с тех пор, как она стала нуждаться в моей помощи, что-то изменилось в наших отношениях. Человек независимый, она ненавидела свою старческую беспомощность и необходимость в подмоге, появилась в ней какая-то напряженность и виноватость. А может, она просто постарела. В общем, она перестала быть для меня взрослой подругой, как раньше, и разговоры наши – когда-то обо всем на свете – стали исключительно бытовыми.
Ко Дню Победы к свекрови на постоянное место жительства должна была заявиться сестра-старуха с дочуркой годов пятидесяти, так что моя деятельная опека над стариками благополучно завершалась. На прощание свекор прошамкал что-то вроде того, чтобы не забывала их, а свекровь увлекла в соседнюю комнату и строго сказала:
– Когда эти приедут, я уже не смогу свободно распоряжаться своими вещами. Так что, пожалуйста…
Она ссыпала мне в руки кучку своих сокровищ: золотое кольцо, нитку жемчуга, нитку кораллов, какое-то этнографическое монисто с серебряными бляшками и бирюзой, черную агатовую брошку размером с пятак, украшенную спиралькой из крошечных бриллиантиков. На мои квелые возражения свекровь заявила:
– Это мое решение. И не вздумай прекословить. И вот это заберешь.
«Вот это» было старинным глобусом такой величины, что если бы я приняла форму эмбриона, то вполне могла бы расположиться в его чреве. Вместо голубых океанов и зелено-коричневых материков поверхность шара напоминала цветом слоновую кость, только очень темную, будто она сто лет пролежала в земле, и еще сто – на солнце. Вода была светлее, суша – темнее. Каллиграфические, тонкие, словно мушиной лапкой сделанные, курсивные надписи – на английском.
Я с трудом дотащилась до автобусной остановки, воображая, как было бы здорово, если бы глобус волшебным образом наполнился гелием, и мы бы с ним полетели к чертовой матери с жемчугами, кораллами и моей дурной башкой. Затем я призывала высшие силы посодействовать, чтоб автобус не был битком набит, а глобус пролез в двери. И они посодействовали, но в дверях я все равно замешкалась, примериваясь, как ловчее протолкнуть в автобус пузо глобуса, как вдруг меня что-то приподняло и поставило на ступеньки. Поначалу я так и подумала, будто небесные силы, к которым я страстно взывала, подсобили, но помощь оказал обычный гражданин, который сзади подсадил меня под попу. Я была не в обиде: и ему приятно, и мне полезно.
Домой приползла на последнем издыхании. Глобус водрузила на круглый стол в проходной комнате и с грустью подумала, что здесь он будет стоять вечно, и чай, кофе, вино и прочее с друзьями-гостями нам уже за этим столом не пить. Вещь, конечно, не слабая, старинная, красивая, но чрезмерно громоздкая и бессмысленная в моей и без того нелепой жизни.
Комната золотилась закатным светом. В окне – черемуха в зеленой дымке. Я включила телевизор, чтобы не сидеть в тишине, и заревела. Продолжительное время жила я в полной гармонии с собой, но, видимо, гармония закончилась. Открыла бутылку красного сухого и хлопнула бокал. И снова зарыдала. Почему? Потому что жизнь прожита бездарно и напрасно, за окном весна, а я одна, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды…
Потом я стояла под горячим душем и продолжала реветь. Потом надела пижаму, замотала полотенцем мокрые волосы, выключила телевизор – невозможно слушать блеянье и мяуканье опостылевших шоу-звезд и не сойти с ума. Выдула еще бокал вина и снова чуть не заплакала, потому что подумала, как легко спиваются женщины, а у меня дурная наследственность. Вспомнив встречу с маминой старой приятельницей, с новой силой захлюпала носом от пережитого унижения. Она меня спросила о том, о сем, а потом о матери: «Она по-прежнему не плюет в рюмку?» В первый момент я даже не поняла, о чем это она, никогда не слышала такого выражения. Затем дошло: пьянствует ли мать по-прежнему? – вот о чем спросила старая карга. «А что она, верблюд?» – вот как я должна была ей ответить, если бы чувствовала себя уверенной, независимой женщиной. А еще лучше и проще: «Не ваше собачье дело».
В результате я решила выпить еще бокальчик и залечь спать. Тут Сусанка и позвонила.
2
Сусанка – жена Кости Самборского, моего двоюродного (точнее – троюродного, а может, четвероюродного, не помню точно какого) брата. С Костей и Сусанкой я не общалась целую вечность, однажды встретила Костю на улице, а года три назад видела Сусанку в каком-то сериале, в эпизодической роли.
О Сусанке рассказывали невероятную историю. Якобы в театральном, где она училась, дела у нее шли плохо, ее даже собирались отчислить, но кто-то заступился. На выпускном спектакле у нее была маленькая роль, где нужно было выскочить на сцену, рухнуть на диванчик и заразительно засмеяться. Рухнуть у Сусанки получалось, а вместо смеха она издавала нечто, похожее на придушенное, страдальческое рыдание. И вот настал урочный день и час. Сусанка вылетела на сцену легкая, как шампанское, повалилась на диванчик и так звонко и заливисто засмеялась, что внезапно кто-то из зрителей засмеялся, а еще через минуту хохотал весь зал. Сусанка болтала в воздухе ногами, сползла с дивана от хохота, а когда от нее потребовалась реплика, стала махать рукой, словно стараясь затормозить действие – сейчас, сейчас, одну минутку! – и потом кое-как выдавила из себя слова. Актеры остолбенели, а режиссер бегал за кулисами и шипел: «Истеричка! Да уберите же ее со сцены!» Как Сусанку убрали, чтобы продолжить спектакль, не знаю, но, видимо, на кого-то она произвела сильное впечатление.
Режиссер всыпал Сусанке по первое число, но диплом она получила, а заодно приглашение в театр, куда ей и не снилось попасть. В конце концов она нашла себя в массовках, играла в группах фрейлин, крестьянок и т. п. Я видела ее в «Тени» Шварца, в кучке курортниц, и до сих пор помню ее звездную роль из двенадцати слов: «Доктор, а отчего у меня под коленкой бывает чувство, похожее на задумчивость?…»
И вот я снова слышу ее мелодичный голос. Она говорит, что Костя дней десять назад поехал на дачу к больному отцу, и с тех пор от него ни слуху ни духу, и мобильник молчит. У Сусанки спектакли в праздники бывают по три в день, к тому же играют все время на разных площадках, потому что в театре ремонт, зимой была колоссальная протечка. В общем, у нее очень напряженный режим, съездить на дачу она не может и попросить некого, кроме меня. Все-таки родственница…
– А что с дядей Колей? Что за болезнь?
– Старость. Жить на даче он уже вряд ли сможет, ему нужен уход, так что придется забирать его в город. Как Костя справится с этим, не знаю…
– Почему Костя? А ты?
– Я теперь живу в другом месте.
– Вы развелись? – изумилась я.
– Почти, – загадочно отозвалась Сусанка.
– Интересно, ты все такая же хорошенькая? – Я воображала, будто подумала это про себя, оказалось – вслух.
Сусанка засмеялась и сказала:
– Смешная ты.
Однако Сусанкин смех ответил: кто бы сомневался!
Она наполовину армянка, но не черненькая, а светлая. Раньше своим нежным личиком и густыми кудряшками она походила на помесь ангела и овцы.
Я обещала завтра же съездить на дачу и перезвонить ей. Налила третий бокал, но не выпила, врубила комп и набрала в «поиске» – «расписание электричек». Сбросила пижаму, сорвала полотенце с головы и оделась с армейской скоростью, красоту наводить времени не было. Уже выскочила за дверь, но вернулась, выгребла из холодилы жалкие запасы: банку сайры, грамм сто ветчины и старый кусок сыра. Бросила в рюкзак вместе с половинкой батона. И помчалась на Удельную, оттуда через сорок минут отправлялась электричка. В одиннадцать буду на месте, темнеет поздно.
3
Интересно, ведь именно сегодня утром я думала о Косте. Не вспоминала, не вспоминала, а тут – вот оно! И все былое в отжившем сердце ожило…
Во сне я летаю, но не так, как другие летуны, которые руками машут или парят, или несутся над миром, переживая ощущения радости и свободы. Я взмываю, зависаю на миг, и, даже не успев ничего почувствовать, неожиданным резким рывком, словно кто сзади хватает меня за подол и кидает назад, лечу в пропасть. И сердце обрывается.
Моя подруга Генька сказала, что надо проверить сердце, но врач не нашел в нем никаких изъянов и посоветовал пить на ночь теплую воду с ложкой меда или валерьянку.
Не то, чтобы я так уж часто летала во сне, скорее редко, зато продолжается это давно, сколько себя помню. И вот нынешней ночью сновидение началось, как обычно: я взмыла в небеса, зависла, и тут же меня швырнуло назад – сердце ухнуло, и я, по привычному сценарию, должна была низвергнуться вниз и проснуться в холодном поту. Но ничего подобного. Меня снова выбросило вверх – и опять воздушная яма. И тут я осознала. Никуда я не падала. Я действительно летала. Только на качелях. В этот раз я совершила два или три качка и вкусила замирание сердца, смешанное с восторгом.
Как же так? Сколько раз со мной это происходило, а я и не подозревала, в чем дело. Мне хотелось снова пережить эти мгновения, проверить, повторится ли ощущение качелей. Я не испугалась бы и всеми силами постаралась научиться извлекать неведомое раньше счастье полета. Но получится ли в следующий раз?
В моих снах мало странного и необъяснимого, обычно это смесь событий прошедшего дня или кусочков из прошлого, и по большей части я могу разложить сновидение по полочкам, то есть понимаю, откуда уши торчат, а тут, вроде бы, ни с чем качели не увязывались. Не было в моей жизни качелей. Не было падений. Ничего такого не было. И никаких травм. Я даже мизинца не сломала, тьфу-тьфу…
Однако? Пока я варила кофе, меня посетила невероятная догадка. Бросилась к письменному столу, где лежал художественный альбом канадского художника Роба Гонсалвеса. К Восьмому марта я получила его в подарок от своего воздыхателя. Полистала альбом и нашла то, что искала. Вот они –качели.
Стиль этого художника называют магическим реализмом. Это определение придумали недавно, а уж оно плотно укоренилось и употребляется кстати и некстати. Но в данном случае – в точку. Гонсалвес – волшебник, иллюзионист, он играет с пространством и материей, трансформирует явь в сновидение и сказку.
Золотая осень в провинциальном, чистеньком, словно игрушка, городке. На ветви дерева качели, самые простецкие – доски на веревках. На одних летит девочка, на других – мальчик. И с каждым взмахом земля уплывает из-под качелей. Дорожки обращаются в реки, заборчик незаметно становится цепочкой домов с острыми фронтончиками и башнями, а осенние листья под деревьями, словно ветром влекомые, сливаются с листвой крон. Летят дети в огромный, неизведанный мир. И все это на одном рисунке! Но тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Неужеликачели в моем сновидении отсюда? Неужели Гонсалвес, мастер чудесных превращений, переиначил мой детский ужас в восторг?
Из всех картин Гонсалвеса мне больше нравятся полеты не на качелях, а на просторе. Вот дети вбегают в школьный кабинет географии, где учитель расстелил на полу карту, и прямо с ходу, раскинув руки, как птицы, взлетают с этой карты в небеса и парят уже над настоящими полями, лесами, водами, уносясь все дальше и дальше. Почему у меня не было такого учителя?
Или дети, спящие под лоскутными одеялами, будто с аэродрома, поднимаются ввысь. Одеяла же оказываются расчерченными зелеными, желтыми и коричневыми квадратами полей.
В невозможной реальности Эшера жить нельзя. Ею можно восхищаться. И в произведениях всей прочей сюрреалистической и магической братии, даже в картинах Магритта, который раньше меня очень занимал, я бы не хотела жить. А метаморфозы Гонсалвеса завораживают. Он не страшный, хотя и в его мире надо держать ухо востро.
Море он претворяет в небо, чаек – в волны с белой пеной. Отражения остроконечных елей в воде, как присмотришься, оказываются вереницей дев с фонарями. Каньоны рек трансформируются в города, бабочки разлетаются осенней листвой. Люди у него возникают из туч, а северное сияние рождает ангелов. Ножницы-художницы режут зигзагами занавески, и за окном является другая реальность: вместо звездного неба – город небоскребов. Из занавеса в продуваемом ветром зале образуются бальные пары. Лабиринты подстриженных кустов, города и замки, винтовые лестницы, дома, леса и долы – все подвластно перевоплощению. Зимние реки вздымаются безлистной кроной угловатых ветвей. Небо начинает струиться замерзшей рекой. А звезды при ближайшем рассмотрении преображаются в фонарики в руках конькобежцев… Круглые веранды, мальчик и девочка, снова мальчик и девочка, двери в иные миры и право выбирать, в которую войти…
Кофе убежал и залил плиту, пока я предавалась причудливым фантазиям Гонсалвеса. Снова наполнила кофеварку и поставила на газ. Позвонила свекрови, записала, что купить на рынке. И уже спускаясь по лестнице, вдруг вспомнила!
Было в моей жизни падение! Но не с качелей. Тарзанка оборвалась. И упала не я, а Костя. Он сломал ногу, а потом месяц скакал в гипсе на одном костыле. Мне было лет пять или шесть, и это событие произвело на меня сильное впечатление, тем более я была свидетельницей его полетов над песчаным обрывом и падения.
Это случилось на даче, куда я сейчас ехала.
4
Неряшливые ели, кривые тонкие стволики березы и ольхи. Черные лужи с зеркальными проблесками неба, а за ними песчаные косогоры. Сосны с розово-коричными стволами, как праздничные свечи. Там-сям полянки, усеянные белыми цветками ветреницы. Деревья голые, а в городе зеленеют вовсю.
Двойные стекла электрички грязны, но вижу все ярко и резко, словно смотрю на это другим, внутренним взором. Я еду на дачу, с которой связано все лучшее и худшее в моем детстве. Я не была там много лет.
Мать Кости, тетя Нина, любила мою бабушку и маму, и меня любила, называла «кукла», «куколка» и «моя обезьянка». Из разговоров взрослых, не предназначенных для моих ушей, я знала, что она хотела родить дочку, но родила Костю, а вскорости пережила какую-то операцию на почки, потом ей удалили матку, с тем ее женская жизнь и закончилась.
Дяде Коле нужна была дочка, так считала тетя Нина, потому что с дочкой он бы помягчел душой, мог бы ее ласкать, потакать капризам и прочее. А с сыном у него контакта не получалось, был сух и строг, никогда не обнимет, а только раздражается и ругает. Моя мать говорила: «Бедный мальчик вырос не на сказках, а на нравоучениях». Когда я была совсем маленькой, то сиживала у дяди Коли на коленях, дергала его за усы, щипала за уши, а он только смеялся. Он говорил со мной на моем птичьем языке, а на прогулках, когда я уставала, таскал на закорках. Мы с ним и потом дружили, но появилась малявка Лилька – наша младшая кузина, которая, надо признаться, в отличие от меня, действительно была кукла куклой. Дядя Коля поделил свою привязанность между нами, теперь он тетешкался и курлыкал с ней, а со мной подобные нежности кончились. Наверное, я ревновала.
Дядя Коля и тетя Нина по возрасту могли бы быть моими бабушкой и дедушкой, потому что были намного старше моей матери. И Костя был на десять лет старше меня. Мне было пять лет – ему пятнадцать, мне десять – ему двадцать. Мы жили в разных мирах. А с какого возраста я была в него влюблена, не знаю, кажется, с самого рождения. Когда это кончилось, тоже не знаю. Процесс был ступенчатый. Первая ступенька: я застукала его в уголке между забором и столяркой (так назывался сарай-мастерская дяди Коли в дальнем углу сада), когда он обжимался с какой-то девицей. Увиденное произвело на меня тяжелое впечатление. Вторая ступенька: женитьба на Сусанке. Это вообще конец света. Третья ступенька: смерть тети Нины, которая прервала наше частое общение. Без нее я уже почти не бывала у них в городе и на даче. Потом я окончила школу, поступила в университет, влюбилась в соученика, разлюбила его, а еще позже вышла замуж.
Тетя Нина умерла от рака вскоре после женитьбы Кости, причем умирать отправилась к сестре, в Воронеж. Поехала будто бы ее навестить, но, как говорили, перебралась туда специально, почувствовав приближение конца. Она завещала (разумеется, устно, но настоятельно) похоронить ее с родителями, в Воронеже. Зачем она это сделала? Болтали, что от обиды на дядю Колю, чтобы досадить ему. Поскольку сама она долгое время не могла жить с ним, как с мужем, он завел себе женщину.
На похороны в Воронеж ездили только дядя Коля с Костей. А вскоре после того дядя Коля перебрался на дачу, и, насколько мне известно, никаких женщин у него не было, жил один. Вероятно, в постели женщина ему уже не нужна была, а к жизни он был вполне приспособлен, обслужить себя мог. Но достоверно я об этом не знаю, сие покрыто мраком…
Дядя Коля был выше и, я бы сказала, импозантнее Кости, хотя в отличие от него всю жизнь занимался тяжелым трудом. Может быть, руки его не отличались большим изяществом, но кто бы подумал, увидев представительного мужчину в велюровой шляпе с полями, что это литейщик? Вообще-то дядя Коля был человек не простой, он был рабочим-интеллигентом, любил историю и собрал большую библиотеку. Он был единственным из знакомых мне людей, у кого на полках стояли двести томов «Библиотеки всемирной литературы». Кстати, далеко не все собиратели библиотек читали свои книги и давали читать другим, а уж редкие книги и вообще держали подальше от чужих глаз. Дядя Коля и сам читал, и другим не отказывал, не жмотился.
Его мать вернулась из эвакуации инвалидом, она работала на лесопилке и потеряла руку, отец погиб на фронте. В общем, дяде Коле пришлось не учиться, а вкалывать, он подростком пришел на «Красный Выборжец», на завод по обработке цветных металлов, где до войны начальником цеха был его отец. Поначалу дядя Коля работал каким-то подручным, а в конце концов стал литейщиком. Аттестат о среднем образовании он получил в школе рабочей молодежи.
Леса, поселки, дачные вокзальчики и платформы. Я нервничала. Я испытывала разные, лишенные всякой логики чувства. Мне хотелось побыстрее приехать, чтобы уяснить обстановку, увидеть все своими глазами. А еще больше хотелось оттянуть приезд. Я боялась найти дядю Колю дряхлым, умирающим, а еще больше боялась, что он умрет при мне. Я хотела запомнить его полным сил, с рубанком, пилой, корзинкой с грибами, каким он был в моем детстве. В общем, смятению моему и позорной трусости не было предела.
А почему, собственно, я решила, что он умирает? Сусанка сказала – заболел. Может, ему стало лучше? И ничего удивительного, что от Кости нет известий. Кого извещать, если они с Сусанкой в разводе? Тем более так получилось, что майские праздники оказались неожиданно длинными, удачно совокупились выходные с первым и девятым мая. И думать ни о чем дурном не надо. Все-таки большая я свинья, что никогда не навестила старика.
Всплывали какие-то мгновения, погребенные в пыльных чуланах памяти: картинки, фразы, слова, я и не предполагала, что там все это осело и хранится.
Вот мы сидим с тетей Ниной на веранде, обрезаем хвостики и носики у крыжовника и бросаем в таз для варки варенья. Вот перебираем чечевицу для похлебки или каши. С детства не ела чечевицы! Вечерами мы играем в шашки или в старую игру «Цирк», где нужно бросать кубик и шагать по нумерованным клеткам фишками-пирамидками. Можно добраться почти до финиша, следуя из клетки в клетку, отступая назад и снова упорно продолжая путь, или подняться со слоном по лестнице чуть не до победной сотой клетки и вдруг съехать по горке вместе с клоуном в самое начало. Моя фишка голубая и прозрачная, похожая на леденец, так что все время хочется засунуть ее в рот. «Цирк» мне нравится гораздо больше, чем телевизор, который, кстати сказать, отвратительно показывает.
На день рождения и праздники тетя Нина дарит мне красивые платья и наряжает меня. «Зачем только ты тратишься?» – с укором спрашивает мама. «Люблю играть в куклы», – отвечает тетя Нина.
Дядя Коля делает нам с тетей Ниной гончарный круг, и мы пытаемся вылепить из глины подобие горшка, но ничего у нас не получается.
У меня для купания, вместо трусов, бикини. В первый раз я надеваю лифчик, прикрываю грудь и воображаю себя Мэрилин Монро или кем-то в этом роде. Окунаюсь в озеро, плыву красивым собачьим стилем, вылезаю на берег, гордо оглядываясь, и не понимаю, почему Костя так смеется, что хватается за живот, приседает на корточки и валится на песок. Только потом замечаю, что лифчик у меня сполз и болтается подмышками, обнажив груди-прыщики. Вот что Костю насмешило. Стыдно невыносимо. А ведь только что все было супер!
Или вот еще: я ем розовые шелковые лепестки шиповника, а в пышных растрепанных пионах ловлю зеленых майских жуков-бронзовок, отливающих металлическим блеском, и сажаю в спичечные коробки. «Отпусти их, – говорит тетя Нина. – У них дома детки плачут».
Рисую соцветие герани, но у меня нет белой краски для правильного цвета лепестков. Я недовольна своей работой, а ведь это подарок тете Нине. Но она говорит: «Очень красивый рисунок. Я всегда буду его хранить». «Никогда не выбросишь?» «Я же тебе сказала –всегда». И я написала на обороте: «Хранить вечно!»
«Всегда» и «вечно» существуют только в памяти.
Я спрашиваю тетю Нину: «Почему ты зовешь меня обезьянкой?» Я подозреваю, что дело здесь нечисто, я ведь вижу в зеркале: рот до ушей, хоть завязочки пришей, нос – пуговкой, щеки круглые, мартышка и есть. А она: «Потому что ты такая же милая и забавная», – и в голосе столько любви и искренности, что не поверить нельзя. Но ответ меня не успокаивает, однажды моя тетка Валя, Лилькина мать, после одного неприятного случая оторвала меня от земли за уши и прошипела в лицо: «Ты похожа на обезьяну!»