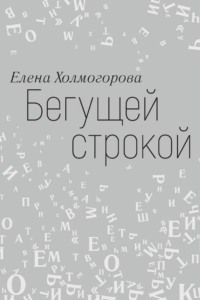Kitobni o'qish: «Бегущей строкой»
Жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями; есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то неизвестно зачем и как) удерживается в нас; есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей; беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить…
Иван Бунин. Жизнь Арсеньева
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
Фото на обложке Арины Перцевой

© Холмогорова Е. С., текст, 2022
© Оформление. ООО «Бослен», 2022
«Я на твоем пишу черновике…»
– Но ты же умер! – я ему сказал.
А он: – Не говори, чего не знаешь.
Олег Чухонцев
Он теперь небожитель, и это не кощунство – всего лишь житель неба. И если я не могу о нем плакать, мне остается только о нем писать.
Честно говоря, Миша мало что делал в доме. Но подтягивать гири наших старинных часов – была его семейная обязанность. Теперь нужны мои усилия, чтобы время не останавливалось.
* * *
В декабре 2016-го у него уже не было сил украшать елку. Но я заставила себя заказать – как всегда большую, живую. Наряжали внуки. Мишина фамильная гордость: две игрушки, сохранившиеся от века девятнадцатого. Картонная красная коробочка: на ней мальчик в матроске держит связку сосисок, на которую с вожделением смотрит сидящая рядом собака. Игрушка была с секретом: потянешь за нижнюю часть, и окажется, что связка сосисок вдвое удлиняется. А еще стеклянная трубка – изогнутая, потертая, бывшая золотая с черным мундштуком. Каждый год, доставая ее из ватной колыбели, я неизменно говорила: «Мишенька, она рано или поздно разобьется – не огорчайся». И вот он вынул трубку, развернул, гордо поднял, чтобы показать внукам, и она выскользнула из его уже слабых и ощутимо подрагивавших рук. Я засуетилась утешать и подметать осколки, он тоже бодрился. Но я поняла в тот момент: это последний его Новый год. Думаю, и он понял. Уверена. Жить ему оставалось в наступающем году ровно месяц. До 31 января.
* * *
11 января был страшный приступ. Ночью, как обычно, в предрассветный, около четырех, но зимой угольно-черный час. Сколько раз художники и киношники говорили, что у него лик святого, но так никто и не запечатлел. Я надела ему в ту ночь крестильную рубашку, осторожно, чтобы не сдвинуть маску ИВЛ, который работал уже на пределе. Он весил 47 килограммов, переворачивать с боку на бок было легко.
* * *
Последние десять дней мы прожили в хосписе. Я привезла полную машину: раскладушку накрыла домашним пледом, на стол поставила ноутбук и разложила рукописи – работу мою никто не отменял. Посуду, конечно. Даже неизменную ежевечернюю игру скрэббл взяла с собой. Близость врачей и морфия подарили нам покой и странное ощущение счастья. Я услышала, как Миша сказал по телефону приятелю: «Нет, я не рвусь домой. Где мы с Аленой вместе, там дом». Тогда я еще умела плакать. Поэтому надо было сдерживаться. По многу раз на дню. И отшучиваться на слова: «Если я неровён час помру… заведи кавалера, обещаешь?»
* * *
Хотелось о многом поговорить, как будто не наговорились за жизнь. И все время рефреном вертелось в голове, как Менахем-Мендл у Шолом-Алейхема в конце каждого письма жене писал «Главное забыл».
* * *
Счет уже шел на немногие часы. И вдруг сквозь пелену ватного тупого ужаса вонзилась мысль: «Он уже не будет умирать в страшных мучениях, он просто никогда не проснется». И дико, нелепо, стыдно обдало счастьем. Он любил строчки: «Легкой жизни я просил у Бога, / Легкой смерти надо бы просить» – и твердо знал имя автора – Иван Тхоржевский. Он боялся не смерти, а умирания, как все мы. А после того приступа 11 января, как я понимала – генеральной репетиции, – я знала, какой ужас ждет его – удушье, а меня – ужас бессилия, невозможность помочь, потому что на аппарате искусственной вентиляции легких уже нет запаса, бессмысленность набирать 03. И вот ясное знание: «Он уже не будет умирать в страшных мучениях», по силе чувства почти равнозначно тому, как будто отменили саму смерть.
* * *
Мы с дочкой сидели по обе стороны кровати. Пришел священник. Я была уверена, что Миша все слышит сквозь искусственную кому, поэтому все повторяла слова, которые, как мне тогда казалось, были самыми важными: «Ничего не бойся». И еще: «Ты все успел». Я не плакала, слезы просто текли сплошным потоком, и я поняла это только тогда, когда его сердце перестало биться, и надо было куда-то идти, что-то говорить и делать, а моя одежда промокла насквозь.
* * *
В день похорон я была чрезвычайно озабочена не только тем, как поведу себя, но и как выгляжу. Миша давно сказал мне (со своей неизменной присказкой «Если я неровён час помру…»): «Пожалуйста, не будь на моих похоронах в спущенных чулках». Привыкши разговаривать цитатами, мы понимали, откуда это. Наталия Ильина вспоминала, как однажды, вернувшись с чьих-то похорон, ее муж А. А. Реформатский заметил: «Вдова была растрепана и в спущенных чулках. Нехорошо. Вдовы должны держаться достойно и вид иметь пристойный». И я очень старалась.
* * *
Все стало невыносимо, кроме музыки и красоты. После похорон друзья спросили: «Чем тебе помочь?» Я сказала: «Отвезите меня к храму Покрова на Нерли». Назавтра мы были там.
* * *
Три книги мы форматно написали в соавторстве, они подписаны двумя именами. Но на самом-то деле все, что сочинялось каждым, в известной мере было общим. Было, было у нас пресловутое счастье «утренней чашки кофе», когда все обсуждалось, торопливое счастье похвастаться удачной строкой или посетовать на тупик. Как я теперь – одна?
Как у Ахматовой:
А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике…
* * *
Отмечаю каждый раз, что впервые делаю что-то одна: вот открыла новый тюбик зубной пасты. Ловлю себя на том, как тяжело дается смена местоимений: «Я пойду» вместо «Мы пойдем»… Ахматова: «Надо, чтоб душа окаменела, / Надо снова научиться жить». Но я не хочу, не хочу, чтобы окаменела… «Господи! Избави мя всякого неведения, и малодушия, и окамененного нечувствия». И еще из вечернего правила: «Господи, даждь ми слезы»…
Ученые подсчитали, что за жизнь человек выплакивает около 70 литров слез, а это более четырех миллионов слезинок. В этой же научной статье неожиданно вычитала красивый образ: «Горе, не имеющее выхода в слезах, заставляет рыдать внутренние органы». Я теперь знаю: частые тяжелые вздохи мои не от астмы, а от горя.
* * *
Трюизм: тяжелее всего мелочи. «И наколовшись об шитье с невынутой иголкой…» Собираю Мишины вещи, чтобы отдать в храм. А в карманах носовые платки, зажигалки и вечные крошки от папирос, которые приходилось тщательно вытряхивать перед каждой стиркой…
* * *
Искала в диктофоне старый черновик. А поверх него записался радостный лай Барона – это Миша откуда-то пришел. Теперь это память о них обоих. А Миша говорил, что надеется после смерти встретить не только маму, но и наших зверей: кота Бурбона и пса Барона.
* * *
Продала квартиру, в которой мы прожили почти сорок лет. Продала дом в деревне, про который Миша говорил: «В Москве зимовка, а тут жизнь». Мы теперь свидимся не там.
* * *
Антоний Сурожский: «Главный грех человека – потеря контакта с собственной глубиной». Вот чего больше всего боюсь.
* * *
Не проходит. Мгновенный порыв рассказать, разделить. Вот прочитала у Георгия Владимова в письме матери о Кривицком, что у того была «замечательная способность делать из мухи слона, а потом торговать слоновой костью», и со стула вскочила, рванулась немедленно порадоваться вместе – а там… пустота. Vacuum horrendum – наводящая ужас пустота.
* * *
Яркий солнечный день, как всегда теперь невыносимый. Я выплакала все слезы в его последние часы, держа за руку. Не заплакала ни на похоронах, ни разу за долгие месяцы, которые теперь складываются и складываются в годы. Говорят: комок в горле. Нет, не так. Это птица, которую заперли во мне, как в клетке, и она там бьется.
В такие минуты уговариваю себя, иногда даже вслух – помогает. Иду по людной улице: ноги автоматом вышагивают, а сердце останавливается, останавливается, иногда кажется, что уже и остановилось. Иду и упрашиваю себя, увещеваю, ласково так с собой разговариваю, как никто и никогда теперь не будет: «Ну, хватит, не плачь, не плачь…»
И не сразу понимаю, что на самом-то деле опять не плачу…
Перечень утрат
Планета Юшино, или Сталк по заброшкам
Я мечтала попасть туда, как все мы тогда мечтали попасть на другие планеты. Да это для меня, московской девочки, и была другая планета. Родители, никогда не бывавшие в такой глуши, долго сопротивлялись, но мое упорство, а потом и слезы сделали свое дело. Провожали они меня напутствием: «Обещай, что, если тебе не понравится, вернешься через три дня!»
Но как мне могло не понравиться? И после моих рассказов никого не удивило, что и вопрос будущего лета был решен. Сейчас эти две поездки в моем сознании почти слились, я уже не всегда могу отделить события одного лета от другого…
«Брянская область, Севский район, село Юшино»… Я писала эти слова на почтовых конвертах, а когда приходил ответ, читала его вслух по многу раз, потому что моя няня – тетя Паня не умела разбирать почерк младшего брата Петра. А ведь он окончил семь классов, работал одно время счетоводом в конторе и выводил ровные строчки почти писарскими, но недоступными ей – с двумя годами церковно-приходской школы – буквами. Когда я открывала конверт, тете Пане, наверное, казалось, что брат ее видит, поэтому она всегда прихорашивалась, перекалывала шпильки на своем крошечном, с грецкий орех, пучочке или тщательно поправляла платок. Я терпеливо читала письмо два-три раза подряд – медленно и с выражением, а потом каждый день в течение недели. В конце концов, я выучивала его наизусть:
«Здравствуй, дорогая сестрица Прасковья Ивановна, с приветом к тебе из Юшино брат Петр Иванович и его жена Таисия Степановна. Мы все, слава Богу, живы-здоровы, чего и вам желаем. Новостей особых пока нет. У деда Бокая крыша в сарае провалилась, его зашибло, на санях отвез Васька-конюх в район. Корова наша отелилась благополучно, теленочек такой хорошенький, рыженький со звездочкой белой на лбу, но по весне придется продать – куда нам еще… Ваньку-косого поймали на самогонке, додумался, дурила, тишком в городе на рынке приторговать. Говорят, если штраф огромадный не заплатит, посодют в тюрьму. Лексей участковый приехал, аппарат увез, а браги две фляги на землю вылил – вся деревня два дня от духа пьяная ходила. Паня, здоровье наше пока неплохое, тяжело только стало управляться с хозяйством, мочи нет, спина пополам переламывается, ночами не сплю, а барсучий жир, что бабка Жилиха дала, помогает не очень. Ты все-таки там, в Москве, спросила бы врачей. А то фелшер мне такое сказал, мол, спина твоя не лечится ничем, а только лежанием на печи без всякой работы. Глупой! По осени еще до снега приезжал с Украйны сын Нинки-свистелки. Привез гостинцы. Рассказывал, как работает в шахте. Мы-то думали, что у нас жисть тяжелая, а все ж не под землей, где цельный день никакого Божьего свету. Приезжай, любезная сестрица, летом погостевать. Замучилась ты, поди, в этой своей Москве. На этом писать кончаю. Остаюсь ваш любимый брат Петр Иванович».
Наконец диктовался ответ. Для проверки точности записи я должна была читать каждое предложение, а потом раза два письмо целиком. Поправок тетя Паня не делала никогда.
Тетя Паня много лет спала на раскладушке, которую расставляла каждый вечер почти вплотную к моей кровати, пока отец не «выхлопотал» ей комнату в коммуналке. А все мое детство, как только мы гасили свет, я начинала приставать к уставшей за день от домашних хлопот няне: «Давай играть в колхоз!» Когда в школе проходили «Поднятую целину», многое казалось мне странным. Тетя Паня, родившаяся в 1916 году, ярко помнила, как отца заставили отвести в колхозное стадо корову со странным для меня именем Витонка – кормилицу семьи, где Паня была младшим, одиннадцатым ребенком. И почему-то злоба и отчаяние, а вовсе не энтузиазм и радость коллективного труда окрашивали ее рассказы.
Игра наша была почти неизменна: утром приходил бригадир к председателю или же звеньевой к бригадиру «за нарядом». И они, обсудив погоду, обязательно начинали препираться, в основном о том, что, мол, другому звену досталась работа полегче.
Няня задремывала, я протягивала руку и теребила ее: «Не спи!» Она ворчала, но, чтобы я отстала, говорила: «Все, вон подводы, пора ехать на поле». Или: «Дождь собирается, скорее метать стога!» Это или что-то подобное означало, что начинается работа. А собственно в работу мы никогда не играли. Я знала едва ли не всех жителей небольшого села Юшино, династическую таблицу председателей колхоза, нехитрые достопримечательности, как то сельпо и клуб, умела петь любимые в селе застольные песни и намертво затвердила, на какие вопросы ни в коем случае нельзя отвечать. Последнее касалось обстоятельств переселения тети Пани в Москву, в частности, «четверти самогона», благодаря которой ей удалось добыть вожделенный, но по дохрущевским представлениям совершенно не нужный колхозникам паспорт.
И вот скоро я туда отправлюсь!.. Как на другую планету!.. Перед отъездом, чтобы не тащить тяжести с собой, мы послали сами себе посылки с консервами и подарками обширной тетипаниной родне, так хорошо знакомой мне по письмам… Дорогу эту я не забуду никогда. Общий вагон, где на полке положено было ехать троим, а на самом деле – сколько уместится. На станции Суземка поезд стоял минуту, надо было успеть выгрузить чемоданы и тюки, там у меня в давке слетела и навсегда сгинула на шпалах новая туфелька. Бережливая тетя Паня ругала меня и поминала туфельку все лето. И наконец – телега, устланная пахучей соломой, и впервые в жизни меня везет не мотор, а живое существо – гнедая лошадь с дивными глазами, как у красавиц, какими иллюстрировал мой дед-художник старинные восточные сказания…
Больше всего меня поразило, что хаты были крыты соломой и что в деревне не было электричества. Потом я узнала, что до войны свет там был, но то ли фашисты, то ли наши взорвали плотину, и за двадцать лет, прошедших после Победы, так ничего не было восстановлено. Поселили нас в освобожденном по этому случаю от хлама чуланчике. В нем не было потолка. Над головой – стропила и скат крыши. Во время сильных дождей то и дело на мой набитый сеном тюфяк сочилась капель. Зато украшен к нашему приезду он был едва ли не лучше избы. Стены побелили, пол застелили домоткаными половичками. В углу икона. А над лежанками цветные репродукции, наверное, из «Огонька» – помню, как сейчас: непременная «Золотая осень» и почему-то врубелевский «Демон». Пахнет свежим сеном – им набиты матрасы.
В доме большой стол, над ним икона с лампадкой – настоящая старая. На стенах – фотографии в самодельных рамках: напряженные позы, застывшие лица и почему-то непропорционально большие руки, аккуратно сложенные на коленях. Кровати с металлическими высокими спинками с блестящими шариками и разномастными подушками и подушечками, поставленными высокой пирамидой.
В первые дни мне было трудно есть приготовленную в печи еду – мешал привкус дыма, потом привыкла. Я все боялась, что кормить будут кашами, к которым с детства питала отвращение. Но на мое счастье оказалось, что главная еда – картошка, которую я обожала во всех видах.
Как же не похожи были эти два лета на привычную дачную жизнь, где компания моих ровесников гоняла по округе на велосипедах! У кого-то играли в пинг-понг, а у кого-то родители разрешали в карты – в «кинга» или просто в подкидного дурака, где танцевали под пластинки твист и чарльстон, вечерами пили со взрослыми чай на террасе под непременным оранжевым с бахромой абажуром, а потом чинно прогуливались, неспешно беседуя, по улицам поселка.
Здесь вечером выходят на горку встречать стадо. Там же узнают все новости. Я поначалу все удивлялась, как находят в этой толпе свою корову, а когда стала ухаживать за телочкой Галкой, увидела, какие у них у всех разные лица. Телочка была маленькая, ее еще не гоняли в стадо, а привязывали пастись на длинной веревке к колышку. В полдень надо было принести ей ведро воды, она уже ждала меня, и мы долго шептались щека к щеке, и иногда она облизывала мне лицо своим неожиданно шершавым языком.
В деревне компании сверстников у меня не завелось. Тетя Паня всячески ограждала меня от дурных влияний, притом что налитая мне, тринадцатилетней, стопка самогона за взрослым столом ее совершенно не смущала, как и крепкие словечки, каковыми изобиловала речь на посиделках, пока разговоры не сменялись пением «Вот кто-то с горочки спустился…». Самогона, именовавшегося ликер «Три бурака», поскольку гнался из свеклы, всегда было вдоволь, на стол ставилась огромная сковорода «жаренки», то есть яичницы с салом, соленые огурцы, и так можно было сидеть допоздна. Со взрослыми я чувствовала себя легко. Когда первый острый интерес ко мне прошел (полагаю, что наш приезд был некоторое время главной местной новостью), у меня появилось много добрых знакомых. Я была страшно любопытна, а людям всегда приятно, когда с ними беседуют о важном для них. Московская жизнь отошла далеко-далеко. И как о самом существенном я писала домой: «У тетки Даши окотилась овечка. А у соседки Натальи заболела корова, так она дала ей литр самогона, и она поправилась. Зато вчера случилось несчастье: упала в кальер корова. Десять мужиков еле вытащили. Думали, придется резать, тетя Маруся так страшно кричала, прямо выла. А потом зоотехник посмотрел – цела корова. Праздновали. Пели «Из-за острова на стрежень…». Несмотря на запреты, гнали самогон все. Но принимались известные участковому не хуже, чем всем остальным, меры предосторожности. Снаружи на дверь вешался огромный висячий замок – никого, мол, нет дома, потом надо было влезть в окно, запереться изнутри – и можно начинать. Дым валит из трубы, но замок-то снаружи! Пуще всего боялись конфискации самогонного аппарата – большая ценность.
Единственная моя фотография из Юшино: едем на телеге, судя по граблям – ворошить сено: я улыбаюсь, но крепко держусь за бортик. Сзади меня тетя Паня (она очень гордилась, что «городская», и при первой возможности снимала платок), а правит лошадью жена Петра Ивановича – Таисия Степановна. Ломаю голову: кто мог снимать? Скорее всего, это зять Петра Ивановича, муж старшей дочери Валентины. Они жили в городе Севске. У них мы были в гостях, когда приезжали на ярмарку на Яблочный Спас. Петр Иванович не мог оторваться от телевизора и был совершенно потрясен, когда узнал, что у меня дома телевизора нет (не по бедности это было, а, вероятно, из родительского снобизма, и я так же залипала у друзей). Райцентр – старинный город Севск был далеко – километров десять, пешком не очень-то дойдешь, надо ждать подводы или попутки. Поездка туда – событие. Особенно по праздникам. Я писала домой: «Вчера был Спас, ездили в город на ярмарку. Она представляет собой довольно дикое зрелище: весь город в грузовиках и подводах. Шум и толкотня невообразимые. Продают вещи, которые в Москве не пойдут даже под вывеской «удешевленные товары». Огромное количество овощей и фруктов. Яблоки стоят 30–40 копеек ведро. Удивительные старики, продают деревянные грабли, плетухи, коромысла, пральники. И тут же – поросят, коров, петухов». Удивительно даже, что деревню помню в подробностях, а вот райцентр оставил только общее впечатление пыли, убожества и скукоты.
Сейчас я бы, наверное, радовалась тому, что уцелели купеческие дома старинного уездного города, что сохранились храмы и возрожден Спасо-Преображенский монастырь. Это я вычитала в интернете, там и фотографии есть. В интернет я полезла лишь за тем, чтобы сориентироваться в географии, точнее понять, где была моя деревня. Но, как часто бывает, зависла. И бестрепетной рукой набрала в поисковой строке тот адрес, который писала полвека назад на конвертах. Я расскажу, чуть позже расскажу, что выдала мне не знающая ностальгии всемирная паутина. В углу небольшого сада росла старая яблоня. Иметь фруктовый сад было вообще-то не по карману – за каждое плодовое дерево, кроме вишни и сливы, до середины пятидесятых годов нужно было платить налог. Тетя Таиса, увидев, что я облюбовала раздвоенный ствол и стала устраиваться там с книжкой, рассказала, что яблоню эту спас от вырубки Петр Иванович – за красоту и необычность сорта – больше в деревне таких не было. Там я читала не только книжки, но и письма. Почта, надо сказать, работала прекрасно. Письма в этот медвежий угол приходили за четыре дня. И – надо же – часть сохранилась! Мой дед – художник, поэт и философ, знакомец Цветаевой и Волошина, писал мне в ответ своим потрясающим, неповторимым почерком: «Все твои наблюдения и соображения справедливы. По идее Ламот-Фуке и Жуковского – все простые, земные вещи и события для существа с живою душой должны быть исполнены особой прелести и очарования. Бертальда может скучать, если нет развлечений, праздников, необычных событий. Но может ли скучать Ундина? – конечно, нет! Потому что ход обычных, будничных дел и событий полон для нее глубокого смысла. Ундина с любовью принимает мир самых простых вещей и дел, всему тихо радуется, всем готова помочь. Вот и оказывается, что она земная – в самом высоком смысле слова…». Делаю вывод: в это время читала «Ундину»… А дед работал над очередными книжными иллюстрациями. И пророчески писал мне: «Подрастешь – и ты будешь работать лапками. Что может быть лучше работы? Она и кормит, и поит, и крышу дает над головой. Работа – убежище от всех грустных мыслей и всех огорчений. Работу надо любить. От работы получаются книжечки. А книжечки нас утешают, радуют. Мы ими гордимся, как детками и внуками. То-то, котик светлый! Самый сердечный привет от меня тете Пане. Я предвижу, что ты вернешься домой этакой крестьяночкой: основные разговоры будут о скоте и навозе. И это – очень, очень хорошо!»
Когда много лет спустя я прочитала статью Лотмана «Декабрист в повседневной жизни», я вспомнила своего деда. Прожившего в волошинском коктебельском доме три предреволюционных года, ходившего с Максом на этюды и вернувшегося полным антропософских идей, которые проросли в моем двоюродном брате, лежащем теперь на маленьком кладбище в Дорнахе около Гётеанума, где он жил и работал, став адептом Рудольфа Штайнера и одним из шести Великих магистров в Гётеануме. И тогда меня поразило замечательно точное рассуждение Лотмана: «…подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, – легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев… Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры»…
Я сижу на раздвоенном стволе и грызу яблоки. Они еще не совсем созрели, но их вкус я буду потом помнить долгие годы. Я спрашивала, какой это сорт. Мне ответили «Опороть». На всех рынках я тщетно искала эту «Опороть», искала во всех энциклопедиях. Потом нашла. Это оказался «Апорт».
Но не так много времени проводила я на своей яблоне. Неожиданно я втянулась в крестьянскую работу. Это получилось как-то само собой. Попросилась в поле посмотреть. Стоять и глазеть было стыдно, начала помогать. Все поначалу умилялись, мол, барское дитя развлекаться изволит. В общем, типа Льва Николаевича «пахать подано, ваше сиятельство». Разозлилась ужасно. Назавтра повязала по-здешнему косынку и попросила грабли – ворошили сено. Через неделю уже никто не удивлялся, все только радовались лишним, пусть и слабеньким рабочим рукам.
Я страшно боялась ездить на возах. С вершины даже лошадь, его тянущая, казалась игрушечной, а сено, хоть и туго свитое веревками, ходило ходуном и кренилось набок при каждом повороте. Идти было далековато, ныли руки в мозолях, гудели ноги, и так заманчиво было влезть на стог и, покачиваясь, плыть над лошадью и бабами с граблями на плечах. Но необъяснимый страх не пускал меня наверх. Это было в первый приезд. А во второй я писала домой: «“Год на год не робит”, как тут говорят, засуха, с сеном совсем плохо, беда. В прошлом году с ног валились от сенокоса, только успевали между дождями ворошить да копны копить, а теперь все наоборот. Наконец разделили проценты сена. Намерили пайки. Сейчас начали возить. Сегодня будем класть большой стог возле двора».
Летний день год кормит. Одновременно с сенокосом надо было думать о том, как согреть дом зимой. С дровами было сложно. Хоть и пели «Шумел сурово брянский лес», и нарекли эти места партизанским краем, а на заготовку дров надо было получать разрешение – чуть ли не на рубку каждого дерева. Зато торфа было в избытке – не ленись копать! Как торф роют – не видела, зато про сушку знаю все. Уже немного подсохшие брикеты – черные кирпичики с резким специфическим запахом складывали в невысокие пирамидки определенным образом, как бы в шахматном порядке, чтобы они хорошо продувались ветром. Через неделю-другую их перекладывали, чтобы просушить другие стороны. Это называлось «кольцевать торф». По времени совпадало это с сенокосом. Главное – дождей бы не было!!! А ближе к осени торфяные кирпичики складывали в высокие штабеля – кубовали. На самый верх я уже класть не дотягивалась – были они выше моего тогдашнего роста. Ближе к дому под навес перевозили торф после первых морозов… «Дня три стоит хорошая погода, и все спешат закубовать торф. В прошлом году я боялась класть стенки, а только середину, а в этом уже клала всю стенку сама. Впрочем, что вам объяснять, вы ведь всей технологии не знаете».