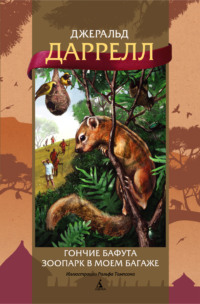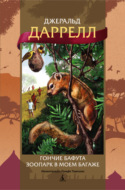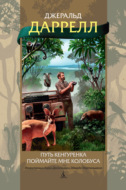Kitobni o'qish: «Гончие Бафута. Зоопарк в моем багаже»
Copyright c 1954 by Gerald Durrell
© Э. И. Кабалевская (наследник), перевод, 2023
© Л. Л. Жданов (наследники), перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023 Издательство Азбука®
* * *

Гончие Бафута

Вот мы и приехали
Река Кросс осторожно, извиваясь, спускается с гор Камеруна, пока не разольется широко, заблестит, засверкает в огромной чаще лесов, окружающих Мамфе. В горах она журчала, пенилась и водопадами срывалась с уступов, а тут успокоилась и степенно потекла по своему каменистому руслу; неторопливое ее движение наносит поперек течения мели чистейшего белого песка и подмывает деревья по берегам, так что обнаженные корни кажутся массой перепутанных, шевелящихся щупалец спрута. Река величаво движется дальше, мутные воды ее кишмя кишат бегемотами и крокодилами, а в теплом воздухе над ней с криками реют синие с оранжевым и белым ласточки.
Перед Мамфе река чуть ускоряет свой бег и протискивается между двумя высокими, поросшими лесом скалистыми утесами; подножия их отшлифованы водой, а сверху потрепанным кружевом свисает кустарник. Выбравшись из узкого ущелья, река вихрем врывается в просторный овальный бассейн. Чуть дальше из такого же ущелья в тот же бассейн выливается еще одна река, их воды встречаются и свиваются в бурлящий клубок крохотных течений, водоворотов и всплесков, чтобы потом продолжить свой путь единым потоком, а на самой середине реки остается след их соединения – огромный сверкающий холм белого песка с отпечатками ног бегемотов и узорными цепочками птичьих следов. Близ этого песчаного островка лес на берегу переходит в небольшой луг, который окружает деревню Мамфе, и вот тут-то, на опушке леса, над спокойными мутными водами реки, мы решили раскинуть наш главный лагерь.
Два дня пришлось валить лес и выравнивать землю, чтобы приготовить строительную площадку, и наконец на третий день мы со Смитом стояли на краю луга и наблюдали, как тридцать местных жителей в поте лица с громкими криками волокли огромную палатку: казалось, на взрытой красной глине валяется громадная коричневая морщинистая туша кита. Постепенно это море парусины разобрали, растянули, и оно вспучилось кверху, набухая, словно чудовищный гриб-дождевик. Потом гриб вдруг раздался в длину и вширь и обратился в палатку весьма внушительных размеров. Когда наконец выяснилось, что это такое, раздался громкий крик изумления и восторга – это кричали жители деревни, которые толпой сошлись поглядеть, как мы будем разбивать лагерь.
Итак, у нас появилась крыша над головой, но пришлось еще целую неделю изрядно потрудиться, прежде чем можно было начинать ловлю зверей. Предстояло сколотить клетки, вырыть пруды, порасспросить старейшин из ближних деревень и рассказать им, какие нам нужны звери, позаботиться о запасах продовольствия и переделать еще уйму всяких дел. Наконец все в лагере было налажено, и мы решили, что можно начинать. Еще раньше мы договорились, что Смит останется в Мамфе и будет присматривать за главным лагерем, собирая по мелочам все, что удастся найти в ближнем лесу с помощью местных жителей, а я тем временем поеду вглубь страны, в горы, где леса уступают место поросшим густой травой равнинам. В этом горном мире с его странной растительностью и более прохладным климатом можно будет найти совсем иную фауну, нежели в жарких лесах.
Я не знал, какую часть равнин мне выбрать, на чем остановиться, и пошел посоветоваться к местному начальнику. Я объяснил ему, что мне надо, он разложил на столе карту горных районов, и мы вместе склонились над нею. Вдруг он ткнул пальцем в какую-то точку и глянул на меня.
– Как насчет Бафута? – спросил он.
– А это подходящее место? Что там за люди?
– Вас должен интересовать только один человек в Бафуте – Фон, – сказал чиновник. – Расположите его к себе – и люди сделают для вас все, что вам нужно.
– Фон? Это что, вождь?
– Он в этом краю нечто вроде римского императора, – сказал чиновник и очертил пальцем на карте большой круг. – Его слово для них закон. Этот тамошний Фон – премилый старый мошенник, и вернейший путь к его сердцу – доказать, что вы можете выпить не меньше его самого. У него там прекрасная большая вилла, он построил ее нарочно на тот случай, если к нему явятся гости-европейцы. Напишите ему, и он позволит вам остановиться у него и даже наверняка сам вас пригласит. Да в Бафут вообще стоит съездить, если вы там и не останетесь.
– Что ж, я пошлю ему записку, посмотрим, что он скажет.
– Постарайтесь хорошенько… э-э… подкрепить ваше письмо, – сказал чиновник.
– Сейчас же пойду в лавку за бутылкой подкрепляющего, – заверил я.
В тот же день в горы отправился гонец с моим письмом и бутылкой джина. Через четыре дня он вернулся с обратным посланием от Фона; этот любопытный документ необыкновенно меня воодушевил:
Резиденция Фона Бафута, Бафут,
Беменда, 5 марта 1949 г.
Мой дорогой друг!
Твое письмо от 3 марта получил, кстати с приложением, и оценил.
Да, я принимаю твой приезд в Бафут на время два месяца насчет твоих животных и тоже очень буду рад отдать тебе в распоряжение один дом в моих владениях, если ты мне хорошо заплатишь.
Сердечно твой Фон Бафута
Я тотчас приготовился к отъезду в Бафут.
I
Жабы и танцующие обезьяны
О большинстве грузовиков в Западной Африке никак не скажешь, что они находятся в расцвете молодости и красоты, и я на горьком опыте научился не ждать от них ничего хорошего. И все же вид грузовика, который прибыл, чтобы везти меня в горы, превзошел худшие мои ожидания: казалось, он сию минуту развалится. Грузовик стоял на полуспущенных шинах, пыхтел и хрипел, изнемогая от усталости, – а ведь ему пришлось всего лишь подняться по отлогому склону небольшого холма к нашему лагерю, – и я не без трепета вверил ему мой груз и самого себя. Шофер оказался весельчаком: он сразу заявил, что мне придется ему помогать в двух весьма важных операциях. Во-первых, когда мы будем спускаться под гору, я должен нажимать на ручной тормоз, потому что, если его не прижать чуть ли не к самому полу кабины, он вообще не станет слушаться.
Во-вторых, мне предстоит неотрывно следить за педалью сцепления, ибо эта весьма капризная деталь при всяком удобном случае выскакивает из муфты и при этом ревет, как попавший в ловушку леопард. Совершенно ясно, что водитель грузовика даже в Западной Африке не может вести машину, скрючившись под приборным щитком и согнувшись в три погибели, а значит, если я хочу остаться в живых после этого путешествия, мне придется помочь ему управиться со своенравными механизмами. Итак, я то и дело нагибался, нажимал на тормоз и вдыхал удушливый запах паленой резины, а тем временем наша храбрая машина тряслась по направлению к горам с постоянной скоростью двадцать миль в час; порой, когда путь лежал под уклон, она очертя голову кидалась вперед и выдавала целых двадцать пять.
Первые тридцать миль проселочная дорога из красной глины вилась по равнине, поросшей лесом; по обе стороны дороги плотной стеной стояли огромные деревья, ветви их в вышине переплетались, образуя свод из листьев у нас над головой. Стайки птиц-носорогов, хлопая крыльями, перелетали дорогу и гоготали – казалось, это сигналили призраки каких-то древних такси на заре автомобилизма, а по обочинам, живописно расцвеченным солнцем, прорвавшимся сквозь густые лиственные своды, грелись агамы; окутанные светом, они пламенели от волнения, как закатные лучи, и яростно кивали головами. Постепенно, почти неприметно дорога пошла вверх, мягко петляя по округлым склонам лесистых холмов. В кузове грузовика мои помощники громко запели:
Домой, домой, хочу домой,
Когда ж увижу дом родной?
Когда увижу мать родную?
Вовек мне не забыть мой дом…
Шофер тихонько подхватил припев и все поглядывал на меня – можно ли? К его удивлению, я тоже запел, и так грузовик катил вперед, оставляя за собой на дороге вихрь красной пыли, из кузова доносился дружный хор голосов, а мы с шофером подпевали, украшая песню всевозможными вариациями, причем он успевал еще аккомпанировать отрывистыми гудками клаксона.
Чем выше мы забирались в горы, тем реже становился лес, а потом подлесок стал меняться: по обочинам дороги мрачно, как заговорщики, стояли купы тяжелых древовидных папоротников с толстыми, приземистыми волосатыми стволами; макушки их разбрызгивались зелеными фонтанами нежной листвы. Папоротники оказались первыми стражами нового мира, ибо внезапно, точно горы сбросили с плеч тяжелую одежду, исчез лес. Он остался позади, в долине, густой зеленый мех волнами уходил в мерцающую от зноя даль, а перед нами величественно высились горы, покрытые высокой, по пояс, колеблемой ветерком и высветленной солнцем золотистой травой. Грузовик взбирался все выше и выше, мотор задыхался и вздрагивал от непривычных усилий. Мне уж подумалось, не придется ли последние две-три сотни футов толкать злосчастную машину в гору, но, ко всеобщему изумлению, она справилась сама: вскарабкалась на вершину горы, дрожа от усталости и изрыгая из радиатора клубы пара, точно издыхающий кит – фонтаны воды. Мы вползли наверх и остановились. Шофер выключил мотор.
– Мало время обождем, двигатель перегрелся, – пояснил он, указывая на радиатор грузовика, который уже совсем скрылся из глаз в облаке пара.
Я с радостью выбрался из раскаленной кабины и побрел к тому месту, где дорога начинала спускаться в очередную долину. С этого наблюдательного пункта видна была вся местность, которую мы проехали, и та, куда нам предстояло вступить.
Позади остался нескончаемый зеленый лес, отсюда он казался плотным и густым, как шерсть барана, только на вершинах холмов можно было разглядеть просветы в непроницаемой массе листьев – на фоне неба деревья вырисовывались прерывистой бахромой. А впереди нам открывался совсем другой мир, просто невозможно было поверить, что оба они – тот и этот, – такие разные, существуют бок о бок. И смена эта происходила не постепенно, нет: позади остался лес деревьев-великанов, сверкающих в своих роскошных мантиях из лакированных листьев, подобно гигантским зеленым жемчужинам, а впереди до самого туманно-голубого горизонта цепь за цепью встают горы, сливаясь и переходя одна в другую, словно огромные застывшие волны; они как бы обращают лицо к солнцу, а склоны их от подножия до гребня покрыты пушистым золотисто-зеленым мехом травы, которая зыблется по прихоти ветра и то светлеет, то темнеет, когда ветер ее завивает или разглаживает. Лес позади расцветал то буйным багрянцем, то зеленью самых ярких и резких тонов. Впереди же все цвета этого странного горного мира травы были мягкими и нежными – бледно-зеленый, золотистый и все оттенки теплого желтовато-коричневого. Плавные изгибы и складки холмов, покрытые этой нежной, пастельных тонов травой, очень напоминали природу Англии – ее южные низины, только в бóльших масштабах. Но вот солнце здесь сверкало без устали и нещадно палило – совсем уж не на английский лад.
Начиная отсюда дорога превратилась в «американские горки», машина то и дело с треском и визгом тормозов спускалась в долины и вновь, кряхтя и кашляя, взбиралась на крутые склоны. На вершине одной горы мы опять постояли, чтобы остыл мотор, и тут я заметил впереди в долине деревню; издали, на фоне окружавшей ее зелени, она казалась бесформенной кучкой черных поганок. Когда выключили мотор, тишина окутала нас, точно мягким одеялом; только слышно было, как чуть посвистывает трава, колеблемая ветром, да из деревни, что лежала далеко внизу, доносился лай собак и крик петуха – звуки, смягченные расстоянием, но отчетливые, как звон колокольчика. В бинокль я разглядел в деревне какую-то суету: вокруг хижин сновали толпы людей, порой сверкали ножи, похожие на мачете, и копья, мелькали яркие саронги.
– Что там за суматоха? – спросил я шофера.
Тот вгляделся, прищурясь, и с радостной улыбкой обернулся ко мне:
– Это базар, сэр, – объяснил он и спросил с надеждой: – Маса хочет остановиться там?
– А ты думаешь, мы сможем там найти добычу?
– Да, сэр!
– По правде?
– По правде, сэр!
Я сделал вид, что рассердился.
– Ты лжешь, негодник, – сказал я. – Ты хочешь там остановиться, чтобы выпить. Разве не так?
– Да, сэр, – ухмыльнулся шофер, – только и маса там тоже найдет добычу.
– Ну ладно, остановимся ненадолго.
– Да, сэр, – радостно сказал шофер и рванул грузовик вниз по склону горы.
Большие круглые хижины с остроконечными соломенными крышами аккуратно разместились вокруг небольшой площади, затененной купами молодых эвкалиптов. Тут-то и расположился базар; торговцы разложили свой товар прямо на земле, на пестром уютном ковре света и тени под стройными деревьями, каждый на своем клочке, а вокруг теснились деревенские жители: они протискивались между торговцами, отчаянно спорили, болтали и размахивали руками. Чем только здесь не торговали! Я просто диву давался – сколько всякой всячины, подчас самой несуразной и неожиданной! Продавались сомы, копченные на костре и насаженные на короткие палки; рыба эта и живая-то на вид не слишком привлекательна, а уж высушенная, сморщенная, почерневшая от дыма она кажется какой-то шаманской куклой, которая корчится в отвратительной пляске. Были здесь и огромные тюки тканей, все больше очень ярких расцветок, – их ввозят из Англии, такие очень по вкусу африканцам; гораздо приятнее выглядели ткани местного изделия, плотные, мягкие и не столь кричащие. Среди этих ярких пятен мелькали в самых невероятных сочетаниях яйца и куры в бамбуковых корзинах, зеленый перец, капуста, картофель, сахарный тростник, огромные кровавые куски мяса; с веревок свисали большие, аккуратно выпотрошенные тростниковые крысы. Продавали и глиняную утварь, и плетеные корзины, и стулья, иголки, порох, пиво, силки для ловли птиц, плоды манго и папайи, клизмы, лимоны, местную обувь, прелестные сумки из волокна рафии, гвозди, кремни, карбид, касторку, сабли и леопардовые шкуры, парусиновые туфли, мягкие фетровые шляпы, пальмовое вино в калебасах, кокосовое и фисташковое масло в старых жестянках из-под керосина.
Посетители базара отличались таким же разнообразием и необычностью, как и товары, выставленные на продажу. Тут можно было увидеть людей народности хауса в ослепительно-белых одеяниях и маленьких белых шапочках; местных вождей в многоцветных одеждах и богато расшитых шапках с кисточками; были тут и полудикие жители отдаленных горных селений – на этих не было ничего, кроме набедренных повязок из грязной кожи; зубы у них заострены, на лицах татуировка. Для них эта деревня конечно же многолюдная столица, а базар, возможно, самое веселое развлечение за целый год. Они яростно спорили, размахивали руками, подталкивали друг друга, их темные глаза сверкали восторгом при виде таких вещей, как ямс или какая-нибудь тростниковая крыса; чаще всего они стояли тесной кучкой и не сводили жадных глаз с высоких кип разноцветных тканей – купить их они не надеялись – и лишь изредка меняли свой наблюдательный пункт, чтобы лучше видеть эту недостижимую роскошь.
Моих помощников и шофера засосало в красочном водовороте толпы, как муравьев в банке патоки, и я оказался предоставлен самому себе. Я немного побродил вокруг, потом подумал, не поснимать ли жителей горных селений, вынул фотоаппарат и стал наводить на фокус. Что тут началось! Ад кромешный: торговцы вмиг побросали свои товары и все пожитки и с дикими криками кинулись в ближайшее укрытие. Я даже растерялся – ведь африканцы обычно очень любят сниматься – и спросил у стоявшего рядом хауса, что случилось. Последовало любопытное объяснение: видимо, горцы уже знают, что если фотоаппарат направить на человека, потом получается его портрет. Но они твердо уверены, что вместе со снимком к фотографу переходит частичка души того, кто фотографируется, и, если снимков сделать много, фотограф обретет над ним полную власть. Отличный пример колдовства вполне современными средствами: в старину вы получали власть над человеком, если завладевали прядкой его волос или обрезками ногтей; в наши дни для той же цели, очевидно, вполне годится фотокарточка. И все-таки, хотя горцы вовсе не желали мне позировать, я ухитрился сделать несколько снимков очень простым способом: становился к ним боком и глядел в другую сторону, а сам щелкал аппаратом из-под мышки.
Однако вскоре я обнаружил нечто такое, от чего все мысли о фотографии и колдовстве сразу вылетели у меня из головы. В одной из маленьких темных палаток, которые окружали площадь, мелькнуло что-то рыжевато-красное, я двинулся туда и увидел очаровательную обезьянку: привязанная длинной веревкой за шею, она сидела на корточках в пыли и громко, пронзительно кричала «прруп!». Шерсть у нее была светло-рыжая, на груди белая манишка, а мордочка – траурно-черная. Ее «прруп» звучало не то криком птицы, не то дружеским кошачьим мурлыканьем. Несколько секунд она очень внимательно меня разглядывала, потом вдруг вскочила и пустилась в пляс.

Сперва она встала на ноги и начала высоко подпрыгивать, широко раскинув руки, точно собиралась прижать меня к груди. Потом опустилась на четвереньки и принялась скакать из стороны в сторону, как мяч, взлетая высоко в воздух. При этом она, видно, все больше входила во вкус и прыгала все выше. Затем последовала короткая передышка – и новые па: теперь обезьяна стояла на четвереньках, плечи и вся передняя половина ее туловища раскачивались, как маятник, а задняя оставалась совершенно неподвижной. Основная схема танца была ясна – и тут обезьяна показала мне, на что способна подлинно искусная, опытная танцорка из обезьяньего племени: она вертелась волчком, прыгала и скакала так, что у меня голова пошла кругом. Обезьяна приглянулась мне с первого взгляда, а эта неистовая пляска дервиша совсем меня покорила, и, конечно же, я просто не мог не купить танцовщицу. Я заплатил ее владельцу двойную цену и с торжеством унес обезьяну. В какой-то палатке я тотчас купил ей связку бананов, и она была так тронута моей щедростью, что тут же меня отблагодарила: обмочила мне всю рубашку. Я отыскал всех своих и шофера – от них так и несло пивом, – мы погрузились в машину и поехали дальше. Обезьяна сидела у меня на коленях, запихивала в рот бананы, обозревала окрестности из окна кабины и слегка повизгивала от волнения и удовольствия.
В знак признания ее танцевальных талантов я решил назвать ее «Балерина», и впредь мы ее так и звали – «красная мартышка Балерина».
Наше путешествие длилось еще несколько часов, и к концу его в долины хлынули темно-лиловые тени, а солнце неторопливо погружалось в несчетные пунцово-зеленые перистые облачка за самыми высокими вершинами западных гор.
Мы сразу поняли, что наконец достигли цели, потому что у Бафута дорога просто кончилась. Слева тянулся огромный пыльный двор, окруженный высокой стеной из красного кирпича. За стеной разместилось множество круглых хижин с высокими соломенными крышами, они теснились вокруг небольшой чистенькой виллы. Но все эти строения казались крохотными и жалкими по сравнению с огромным сооружением, похожим на диковинный улей, только увеличенный в тысячу раз. Это была огромная круглая хижина с толстенной соломенной крышей куполом, загадочная и черная от старости. По другую сторону дороги начинался крутой подъем, вверх тянулась широкая лестница ступеней в семьдесят – она вела к большой двухэтажной вилле в форме коробки для обуви, каждый этаж ее обведен был широкой сплошной верандой и обе веранды обильно увиты бугенвиллеей и другими вьющимися растениями. Так, значит, вот он какой – мой дом на ближайшие несколько месяцев.
Не успел я с трудом выбраться из кабины грузовика – ноги совсем затекли, – как под аркой в дальней стене большого двора открылась дверь и ко мне через весь двор направилась небольшая процессия. Это были мужчины, в большинстве пожилые; их развевающиеся многоцветные одеяния шелестели на ходу, голову каждого покрывала маленькая круглая шапочка, богато расшитая разноцветной шерстью. Посреди этой группы шагал высокий стройный человек с живым улыбчивым лицом. На нем была простая белая одежда и шапочка без всяких украшений, и все же, несмотря на это, я тотчас понял, что в этой яркой толпе он самый главный – так величава была его осанка. Это был Фон – правитель Бафута, огромного лугового королевства, которое мы пересекли на пути сюда, и многого множества чернокожих подданных. Я знал, что он сказочно богат и правит своим королевством толково и умно, хоть и несколько деспотично. Фон остановился передо мной, приветливо улыбнулся и протянул мне большую тонкую руку.
– Милости просим, – сказал он.
Позднее я убедился, что он говорит на ломаном английском не хуже своих подданных, но почему-то стесняется этого умения, и вначале мы разговаривали через переводчика; тот стоял рядом, почтительно склонившись, и переводил мою приветственную речь, прикрывая рот руками, сложенными лодочкой. Фон вежливо слушал, пока я говорил, а переводчик переводил, потом взмахнул большой рукой и указал на виллу, стоявшую на вершине холма по ту сторону дороги.
– Отлично! – сказал он и широко улыбнулся.
Мы снова обменялись рукопожатием, он зашагал со своими советниками назад через двор и скрылся за дверью под аркой, предоставив мне самому располагаться в его вилле.
Часа через два, когда я уже принял ванну и перекусил, ко мне явился гонец и сообщил, что Фон хотел бы зайти ко мне потолковать, если, конечно, я успел немного отдохнуть с дороги. Я ответил, что вполне отдохнул и буду счастлив принять Фона; потом я извлек из чемодана бутылку виски и стал ждать. Вскоре он прибыл в сопровождении своей маленькой свиты, мы уселись на веранде, где уже горела лампа, и принялись болтать. Я выпил за его здоровье виски с водой, а он за мое – чистое виски. Сначала мы разговаривали через переводчика, но когда уровень виски в бутылке изрядно понизился, Фон заговорил по-английски. Добрых два часа я подробно рассказывал ему о том, зачем я сюда приехал, показывал книги и фотографии нужных мне зверей, рисовал их на клочках бумаги и, когда все остальное не доходило, пытался подражать их голосам, а между тем стакан Фона неукоснительно наполнялся опять и опять – просто страшно становилось.
Он сказал, что, надо думать, мне удастся добыть почти всех зверей, которых я ему показывал, и обещал назавтра прислать искусных охотников. Но, пожалуй, лучше он сам объявит людям, что мне нужно, продолжал Фон, и они все постараются поймать для меня добычу, а самый удобный случай объявить об этом представится дней через десять. Тогда состоится некая церемония: как я понял, в назначенный день его подданные всегда собирают в горах и долинах огромное количество сухой травы и приносят ее в Бафут, чтобы Фон мог перекрыть крышу своей громадной таинственной обители и крыши жилищ своих бесчисленных жен. Когда траву приносят, он задает пир на весь мир. На торжество собираются многие сотни людей со всех окрестных мест, и, как объяснил Фон, удачней случая не придумаешь; он произнесет речь и растолкует людям, чего я от них хочу. Я с радостью согласился, от души и довольно многословно его поблагодарил и в очередной раз наполнил его пустой стакан. Бутылка быстро пустела, наконец в ней не осталось ни капли – хоть ставь ее вверх дном. Тогда Фон величественно поднялся на ноги, подавил икоту и протянул мне руку.
– Я пошел, – заявил он и помахал рукой куда-то в сторону своей маленькой виллы.
– Мне очень жаль, – учтиво сказал я. – Хочешь, я пойду провожу?
– Да, мой друг! – просиял он. – Да, отлично!
Я кликнул одного из его свиты, и тот примчался стремглав, держа в руке фонарь-молнию. Светя этим фонарем, он пошел впереди нас по веранде и дальше, к той длинной лестнице. Фон все еще не выпускал мою руку, а другой рукой обводил веранду, комнаты и залитый лунным светом сад далеко внизу и, очень довольный, бормотал про себя: «Отлично, отлично». Когда мы добрались до лестницы, он приостановился, с минуту задумчиво глядел на меня, потом ткнул длинной рукой вниз.
– Семьдесят пять ступеньки, – сказал он и просиял.
– Очень хорошо, – согласился я и кивнул.
– Сейчас мы их считаем, – предложил Фон, в восторге от своей затеи. – Семьдесят пять, мы их считаем.
Он обхватил меня за плечи, всей тяжестью повис на мне, и мы начали спускаться на дорогу, не переставая громко считать ступеньки. Фон помнил английский счет только до шести, остальные цифры он забыл; на полпути мы сбились, что-то перепутали, и, когда добрались до нижней площадки, оказалось, что по его расчетам трех ступенек не хватает.
– Семьдесят два? – спросил он сам себя. – Нет-нет, семьдесят пять. Куда же подевался остальные?
И гневно оглядел свою съежившуюся от страха свиту, что ждала нас внизу, на дороге, будто подозревал, что его приближенные спрятали недостающие три ступеньки у себя под одеждой. Я поспешно предложил пересчитать все заново. Мы опять вскарабкались наверх до самой веранды, считая изо всех сил, потом, для окончательной проверки, считали всю дорогу вниз. Сосчитав до шести, Фон всякий раз начинал сызнова, так что я очень скоро понял: если я не хочу всю ночь бродить вверх и вниз по этой лестнице, разыскивая недостающие ступеньки, надо что-то предпринять. Поэтому, когда мы дошли до самого верха и опять спустились вниз, я громко, торжествующе провозгласил: «Семьдесят пять!» – и радостно улыбнулся моему спутнику. Сперва он не очень охотно согласился с моим счетом, ибо сам дошел только до пяти и был уверен, что существование остальных семидесяти надо еще как-то доказать. Однако я заверил его, что в юности получил немало наград за устный счет и что все сосчитано правильно. Фон прижал меня к груди, потом схватил за руку, с силой стиснул ее и пробормотал: «Отлично, отлично, мой друг». Наконец он двинулся через огромный двор к своей резиденции, а я потащился наверх (по семидесяти пяти ступенькам) к своей кровати.
Весь следующий день, превозмогая отчаянную головную боль – результат вчерашней попойки с Фоном, – я усердно сколачивал клетки в надежде, что мне вот-вот начнут приносить «добычу». В полдень ко мне явились четверо высоких, внушительного вида молодых людей в ярких праздничных саронгах, с кремневыми ружьями в руках. Это устрашающее оружие было невообразимо древнее, стволы изъедены ржавчиной, и вид у них такой, точно каждое ружье перенесло оспу в тяжелейшей форме. Я заставил молодых людей вынести опасное оружие за ворота и сложить его там и только потом разрешил им подняться ко мне. Это и были охотники, которых прислал Фон; с полчаса я показывал им фотографии зверей и объяснял, сколько за какого зверя буду платить. Потом я велел им идти на охоту, а вечером доставить сюда ко мне все, что они поймают. Если же они ничего не поймают, пусть приходят на следующее утро. Я оделил их сигаретами, и они побрели по дороге, о чем-то оживленно переговариваясь и увлеченно тыкая ружьями во все стороны.
В тот же вечер один из четверых вернулся с маленькой корзинкой. Он присел на корточки, жалобно поглядел на меня и стал объяснять, что ему и его товарищам по охоте не очень-то повезло на этот раз. Они ходили далеко, сказал он, но не нашли ни одного зверя из тех, что я им показывал. Впрочем, кое-что они все-таки добыли.
Тут он подался вперед и поставил корзинку к моим ногам.
– Не знаю, маса хочет такой добыча? – спросил он.
Я приподнял крышку и заглянул в корзинку. Я надеялся, что увижу белку или, может, крысу, но там сидела пара больших прекрасных жаб.
– Маса нравится такой добыча? – спросил охотник,
с тревогой вглядываясь мне в лицо.
– Да, очень нравится, – сказал я, и он расплылся в улыбке.

Я уплатил ему что положено, наделил сигаретами, и он отправился восвояси, пообещав вернуться наутро вместе со своими друзьями. Когда он ушел, я мог наконец заняться жабами. Каждая была величиной с блюдце, глаза огромные, блестящие, а короткие толстые лапы, казалось, не без труда поддерживали тяжелое тело. Расцветка у них была просто изумительная: спинка густого кремового цвета, в крошечных извилистых черных полосках; с боков голова и тело темно-красные, цвета то ли вина, то ли красного дерева, а живот – ярко-желтый, цвета лютика.
Надо сказать, что жабы всегда были мне симпатичны, ибо я убедился, что они существа спокойные, благонравные и в них есть какая-то своя прелесть: они не так неуравновешенны и не так придурковаты и неуклюжи, как лягушки, кожа у них на вид не такая мокрая и они не сидят с разинутым ртом. Но до встречи с этими двумя я воображал, что, хотя жабы по расцветке и вообще по внешнему виду бывают очень несхожи, нрав у них у всех примерно один и тот же: если знаешь одну, можно считать, что знаешь всех. Однако, как я очень скоро обнаружил, характер у этих двух земноводных столь своеобразен, что ставит их чуть ли не наравне с млекопитающими.
Эти существа называются жабами-сухолистками, потому что необычные кремовые (с темными прожилками) их спины по цвету и рисунку очень напоминают сухой лист. Если такая жаба замрет на земле в осеннем лесу, ее никак не различить среди опавших листьев. Отсюда их английское название. Научное же название – бровастая жаба, а по-латыни они называются еще удачнее –Bufo superciliaris1, ибо такая жаба на первый взгляд кажется необычайно надменной. Кожа над большими глазами как бы вздернута и собрана острыми уголками, так что полное впечатление, будто жаба подняла брови и глядит на мир свысока, с язвительной насмешкой. Широко растянутый рот подбавляет жабе аристократической надменности: углы его слегка опущены, словно жаба усмехается; такое выражение я видел еще только у одного животного на свете – у верблюда. Прибавьте к этому неторопливую, покачивающуюся походку и привычку через каждые два-три шага присаживаться и глядеть на вас с какой-то презрительной жалостью – и вы поймете, что перед вами самое надменное существо на свете.
Обе мои сухолистки сидели рядышком на дне корзины, выстланном свежей травой, и глядели на меня с уничтожающим презрением. Я наклонил корзинку, и они вперевалочку вылезли на пол, исполненные достоинства и негодующие, – ни дать ни взять два лорд-мэра, которых ненароком заперли в общественной уборной. Они отошли фута на три от корзинки и уселись, слегка задыхаясь, – видимо, совсем выбились из сил. Минут десять жабы пристально меня разглядывали и с каждой минутой явно все сильней презирали. Потом одна двинулась в сторону и пристроилась у ножки стола, должно быть приняв ее за ствол дерева. Вторая продолжала меня разглядывать и по зрелом размышлении, видно, составила обо мне такое мнение, что ее вырвало и на полу оказались полупереваренные останки кузнечика и двух бабочек. Тут жаба кинула на меня укоризненный и страдальческий взгляд и зашлепала к ножке стола, где сидела ее подруга.