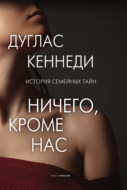Kitobni o'qish: «Послеполуденная Изабель»
Постель одна, сны разные.
Китайская поговорка
Глава первая
До Изабель я ничего не знал о сексе.
До Изабель я ничего не знал о свободе.
До Изабель я ничего не знал о Париже, где секс и свобода – две из его бесконечных реальностей.
До Изабель я ничего не знал о жизни.
До Изабель…
Если смотреть в то зеркало заднего вида, что зовется памятью…
До Изабель я был всего лишь мальчишкой.
А после Изабель?
После «до» и до «после»… вот из чего сотканы все истории. Особенно те, что окрашены интимным флером.
А с Изабель все было интимным.
Даже если наши тела не сплетались в объятиях предвечерними часами.
Предвечерние часы с Изабель.
Великая константа той маленькой истории, которая для меня стала большой историей. Потому что это история моей жизни.
Всякая жизнь – быстротечная сказка. Вот почему мое повествование, ваше повествование, наше повествование так важно. Каждая жизнь имеет собственный смысл, каким бы мимолетным или второстепенным он ни казался. Каждая жизнь – это роман. И в каждой жизни, если позволено, бывают свои вечера с Изабель. Когда все возможно и бесконечно, и так же преходяще, как песчаная буря в Сахаре.
Предвечерние часы с Изабель.
Та точка на карте моей жизни, где в какой-то момент я пересекся с самой неуловимой из всех субстанций:
Счастьем.
***
Париж.
Впервые я увидел его на двадцать первом году своей жизни. В далеком тысяча девятьсот семьдесят седьмом, в 8:18 утра, как подсказывали часы на моем запястье. Тремя минутами позже я прошел под вокзальными курантами в стиле ар-деко, царившими над холодными просторами La Gare du Nord1.
Январь в Париже. Все вокруг, noir et blanc2, утопает в бесконечной темноте. Я прибыл ночным поездом из Амстердама. Позади восьмичасовое путешествие, прерываемое мгновениями мимолетного сна, на жестком сиденье в тесном вагоне. На всем пути к югу пространство между моими ушами все еще было затуманено, после того как я легально накурился на дорожку травкой в кофешопе на Принсенграхт. У входа в métro3 я приметил небольшую булочную, где утолил ночной голод круассаном и крепким черным кофе. Рядом находилась табачная лавка. За три франка я приобрел пачку «Кэмел», обеспечив себя куревом на целый день. В считанные мгновения я, как и все остальные ожидающие поезда Ligne 54, следующего на юг, погрузился в глубокий плен утренней сигареты.
Мétro. В этот послерассветный час в одном из вагонов второго класса еще оставалось место для локтей. Все выдыхали клубы дыма и морозный воздух. Тогдашнее métro запомнилось всепроникающим ароматом горелого дерева и вонью недезодорированных подмышек. Тусклые флуоресцентные лампы в деревянных вагонах отбрасывали подземный аквамариновый свет. И стены пестрели наклейками с просьбой уступить место искалеченным на войне.
У меня был записан адрес гостиницы на рю Жюссьё. Пятый округ. Недалеко от Jardin des Plantes5. Полузвездочный отель с полузвездочной ценой: сорок франков за ночь. Шесть американских долларов. Что оставляло мне еще сорок франков в день на то, чтобы я мог кормить и поить себя, ходить в кино, курить сигареты, сидеть в cafés6 и…
Я понятия не имел, как закончить эту фразу. У меня не было плана или предначертанной стратегии. Только что я окончил один из университетов штата на американском Среднем Западе. И уже получил стипендию в юридической школе, гарантировавшей своим выпускникам прямой путь в высшие эшелоны власти.
Так что деньги, потраченные отцом на мое образование, не пропали даром, и теперь я заслуживал его самой высокой похвалы. «Молодец, сынок», – сказал он. Но что подпортило впечатление, поскольку шло вразрез с его взглядами на жизнь, так это объявленное мною в День благодарения решение о том, что сразу по окончании семестра я полечу через Атлантику.
Мой отец. Скупой на чувства и слова. Не чудовище. Не повернутый на дисциплине. Но отсутствующий. Даже несмотря на то, что никогда не путешествовал и проводил почти все вечера дома, уже к шести возвращаясь с работы. Он владел небольшой страховой компанией, где, кроме него, трудились еще трое агентов. Его отца, кадрового военного, всегда называли «полковником». Однажды, вскоре после того, как моя мать умерла от коварного скоротечного рака, отец с редкой откровенностью признался мне, что провел большую часть своего детства в страхе перед этим солдафоном. Отец никогда не бывал со мной строг, да я и не давал повода – ответственный ребенок, прилежный ученик. Я не высовывался, превратил себя в зубрилу, надеясь угодить отцу, неспособному проявить ко мне хотя бы немного теплоты.
Моя мать отличалась стоическим нравом. Тихая женщина, она преподавала в школе и, казалось, смирилась со своей безрадостной судьбой в браке с мужчиной, за которого согласилась выйти замуж. Она никогда не спорила с моим отцом, играла роль послушной хозяйки и воспитывала меня как «хорошего мальчика, предназначенного для великих свершений». Мама привила мне интерес к книгам. Она купила мне географический атлас и разожгла во мне любопытство и стремление к познанию мира за пределами наших сенокосов. В отличие от папы, она была очень ласкова со мной. Я действительно чувствовал ее любовь, хотя и излучаемую в свойственной ей размеренной манере. Когда она заболела, мне было всего двенадцать. Мой страх потерять маму был всепоглощающим. От постановки диагноза до смерти прошло шесть недель кошмара. О том, что у нее терминальная стадия рака, мне сказали лишь за десять дней до того, как она ушла из жизни. Я знал, что она больна. Но она слушала моего отца и продолжала отрицать окутывавшую ее обреченность. Как-то вечером мама призналась мне, что ее время подходит к концу, а на следующий день ее спешно доставили в больницу в Индианаполисе, в часе езды от нас. После этого я несколько дней переживал состояние безмолвной травмы. В ту пятницу папа явился в школу без предупреждения, шепотом переговорил с моей классной руководительницей, а затем жестом позвал меня с собой. Как только мы вышли на улицу, он сказал мне: «Твоей маме осталось жить считанные часы. Нам надо поторопиться». По дороге в больницу мы почти не разговаривали. Но к тому времени, как мы приехали, мама уже впала в кому. Папа позволил дежурному онкологу провести все необходимые процедуры и подтвердить, что нет никакой надежды на то, что она переживет этот вечер. Мама так и не вышла из комы. Мне больше не удалось поговорить с ней, попрощаться.
Через год после ее смерти отец объявил мне, что женится на женщине по имени Дороти. Он познакомился с ней в своей церкви. Дороти была бухгалтером. И отличалась той же сдержанностью, что и папа. Со мной она обращалась с отстраненной вежливостью. Когда я поступил в университет штата, Дороти убедила папу продать наш семейный дом и купить жилье для них двоих. На самом деле я почувствовал облегчение, когда это произошло. И вообще был рад, что папа обрел эту холодную женщину. Это избавило меня от груза необходимости быть рядом с отцом, хотя сам он никогда не выражал ни малейшей потребности во мне. Потому что это означало бы показать сыну свою уязвимость. А отец никогда не посмел бы этого сделать. Дороти сказала, что в их доме для меня будет отведена гостевая комната. Я поблагодарил ее и… гостил у них по большим праздникам вроде Дня благодарения или Рождества, но в остальное время старался держаться подальше. Мое поступление в элитную юридическую школу папа и Дороти встретили полагающимися звуками одобрения. Но как человек, не доверяющий большому опасному миру за пределами своего узкого жизненного опыта (он никогда не покидал страну, за исключением службы во флоте во время войны), отец с неудовольствием воспринял новость о том, что я собираюсь в Париж.
– Следовало бы обсудить это, сынок.
– Я и обсуждаю сейчас.
И я спокойно объяснил, что все те летние месяцы работы клерком в местной юридической фирме, десять часов в неделю подработки в университетской библиотеке, вкупе со строгим соблюдением проповедуемой им же добродетели бережливости, позволили мне скопить достаточно денег, чтобы обеспечить себе несколько месяцев проживания за пределами американских границ. Дополнительная учебная нагрузка в последние два семестра означала, что я буду свободен от колледжа и сопутствующих расходов всего через несколько недель.
– Я этого не одобряю, сынок.
Но он больше не поднимал этот вопрос, особенно после того, как Дороти заметила, что я только что сэкономил ему несколько тысяч долларов, получив диплом на семестр раньше срока. Отец отвез меня в аэропорт в вечер моего отъезда и даже вручил мне конверт с двумя сотнями долларов наличными в качестве «подарка в дорогу». Затем он коротко обнял меня и попросил время от времени писать ему. Тем самым он словно хотел сказать: теперь ты сам по себе. Хотя, по правде говоря, так было всегда.
В вагоне métro женщина, всего на несколько лет старше меня, оглядела мой голубой пуховик, мой рюкзак, мои походные ботинки. Я прочитал в ее глазах мгновенную оценку: американский студент, впервые за границей, потерянный. Мне вдруг отчаянно захотелось вырваться из этого фоторобота, сокрушить все ограничения, предосторожности и условности моей прежней жизни. Захотелось спросить номер ее телефона и сказать: «Подожди, пока не увидишь меня в более крутом прикиде». Но как все это выразить по-французски?
На рю Жюссьё нашелся магазин армейской одежды, где продавали черные бушлаты – Importé des Étais-Unis7. Я примерил один и стал похожим на бродягу из романов Керуака8. Бушлат стоил четыреста франков – цена заоблачная для меня. Но это пальто я бы носил каждый день зимой. И это пальто позволило бы мне слиться с городским пейзажем и не привлекать внимания к моему тревожному статусу американца за границей.
А я действительно был встревожен.
Потому что был одинок. И плохо владел языком. И без друзей. И лишенный жесткого курса, который до сих пор определял мою жизнь.
Тревожность – это головокружение свободы.
Теперь у меня появилась свобода.
И Париж.
И черный бушлат.
И ощущение, что моя жизнь представляет собой tabula rasa.
Чистый лист зачастую вызывает страх. Особенно у тех, кто воспитан с верой в необходимость строгой определенности.
В отеле я заплатил за неделю проживания, взял ключ от номера, поднялся наверх и захлопнул дверь, на несколько часов проваливаясь в беспамятство с одной-единственной мыслью:
Я не связан ни с чем и ни с кем.
Головокружительное осознание.
***
Мой гостиничный номер. Старая медная кровать с тонким, как вафля, матрасом. Фарфоровая раковина в пятнах и тронутые ржавчиной краны. Рябой шкаф красного дерева, видавший виды кофейный столик и один стул. Цветастые обои, пожелтевшие от времени и сигаретного дыма. Маленький, но настырно стучащий радиатор. Вид из окна на переулок. Стены, пропускающие звук. Стрекот пишущей машинки. Бесконечный хриплый мужской кашель. Но я все равно спал. И проснулся ближе к вечеру. Ванная находилась дальше по коридору. Унитаз на уровне пола, предлагающий справлять нужду стоя или на корточках. Жестоко. Тесная душевая кабинка по соседству, отгороженная старой зеленой виниловой занавеской. Шланг с ручной лейкой. Хорошо хоть, вода горячая. Я намылил тело и волосы, смывая затянувшуюся на целый день сиесту. Потом воспользовался грубым банным полотенцем, оставленным на кровати, чтобы вытереться и скрыть наготу на время обратной пробежки в свою комнату. Там я оделся и вышел в мир.
Падал снег. Париж казался выбеленным. Голод взывал ко мне. Уже больше суток я жил без нормальной горячей пищи. Я нашел небольшую закусочную сразу за бульваром Сен-Мишель. Steak frites9, пол-литра красного вина, crème caramel10: двадцать пять франков. Я поймал себя на мысли, что слишком щепетильно отношусь к деньгам, вечно копаюсь в противоречиях между ценой и истинной полезностью вещи. Бережливость и самоограничение – два главных жизненных кредо, внушенных мне еще в раннем возрасте. Теперь я хотел избавиться от них. Но при этом хотелось как-то пережить следующие пять месяцев без необходимости бежать домой в поисках работы. С первого июня меня ждала летняя подработка клерком у федерального судьи в Миннеаполисе. А с сентября начинались занятия в юридической школе со всеми вытекающими последствиями. Но, пока ничего из этого не наступило, я пребывал в настоящем, здесь и сейчас, свободный от каких-либо обязательств… за исключением того, чтобы не вылезать за рамки бюджета.
Почти весь вечер я бродил по городу, не обращая внимания на холод и все еще падающий снег. Если вам не посчастливилось вырасти в окружении городского эпического величия – или там, где хотя бы что-то намекает на монументальный историзм, – Париж может вызвать ощущение пришибленности. Но, хотя его грандиозные архитектурные декорации ослепляли, периферийное зрение вело меня в другие места: по закоулкам и извилистым лабиринтам улочек. И все вокруг было пропитано сексом – от ночных бабочек, вылавливающих клиентов на краю тротуара, до парочек, сцепившихся в объятиях у стен домов, фонарных столбов и даже каменной балюстрады моста Пон-Нёф. Я ощутил себя Сеной: темной холодной водой в нескончаемом дрейфе. Я завидовал влюбленным. Я завидовал всем, кто был связан с кем-то другим, кто не чувствовал себя одиноким в темноте.
***
Я научился дрейфовать.
Моя первая неделя в Париже стала продолжительной бесцельной прогулкой. Рассвет для меня отныне наступал около десяти утра. По соседству с отелем находилось café. Каждое утро я съедал один и тот же завтрак: citron pressé, un croissant, un grand crème11. Это заведение облюбовали местные работяги – мусорщики, дорожные рабочие, – что и делало его дешевым. Хозяин – с плохими зубами и усталым взглядом, но профи в своем деле – всегда стоял за прилавком. Когда я наведался туда четвертый день подряд, он приветствовал меня кивком: «La méme chose?12» – спросил он. Я ограничился традиционным bonjour13 и кивнул в ответ. Мы так и не обменялись именами.
Ежедневная «Интернэшнл геральд трибюн» была мне не по карману. Но хозяин café всегда держал на стойке бара вчерашний выпуск. Он-то и подсказал мне:
– Ваш соотечественник из отеля всегда покупает газету перед завтраком, а уходя, оставляет ее на столе.
Или, по крайней мере, мне подумалось, что он так сказал. Я понимал по-французски едва ли больше, чем мог говорить.
– Il arrive quand?14 – Я уже купил блокнот, дешевую авторучку, словарь, сборник базовых глаголов. И поставил себе задачу каждый день запоминать по десять новых слов и спрягать по два новых глагола в présent, passé и futur proche15.
– Каждое утро в семь. По-моему, он почти не спит. Человек с глазами, слишком избитыми жизнью.
Мне так понравилась эта фраза – un homme aux yeux trop mâhés par la vie, – что я записал ее в свой блокнот.
Café называлось Le Select16, и в самом названии заключалось противоречие. В Le Select не было ничего избранного. Обычная забегаловка с несколькими столиками и без каких-либо удобств. Я не был таким уж знатоком и ценителем кафе. Мой опыт ограничивался американскими кофейнями, американскими закусочными, американо из капельной кофеварки. Добавить к этому еще музыкальные автоматы, вульгарный линолеум и официанток с кривыми улыбками и жвачкой во рту. Здесь, в Le Select, выпивка была общепринятой частью утреннего ритуала. Большинство мусорщиков – les éboueurs – глушило calva17 с кофе. А пара жандармов частенько заходила пропустить бокальчик-другой vin rouge18 – его наливали из литровых бутылок без этикеток. Они никогда не платили за вино. Le Select научил меня искусству осмысленного безделья. Я просиживал там до полудня с завтраком, вчерашней газетой, сигаретами, блокнотом и авторучкой. Меня никогда не торопили, никогда не беспокоили. Так я пришел к пониманию ключевой идеи парижских кафе: они дарили ощущение импровизированной общности и теплого убежища среди холодной бесстрастности городских улиц.
К середине дня я перебирался бездельничать в другие места, чаще всего в кинотеатры на рю дю Шампольон. Старые вестерны. Старые фильмы нуар. Малоизвестные мюзиклы. Фестивали режиссеров: Хичкок, Хоукс, Уэллс, Хьюстон. Все на языке оригинала – английском, с французскими субтитрами, пляшущими у нижнего края экрана. Место, где можно спрятаться за десять франков за сеанс.
Séance – просмотр кинофильма. Но также и собрание людей. Ритуальная форма встречи.
Еще одно слово для моей записной книжки.
Я принял решение исследовать пешком все двадцать округов, arrondissements. Я обходил музеи и галереи. Я стал завсегдатаем англоязычных книжных магазинов. Я посещал джаз-бары на рю де Ломбар. Я впервые попробовал тажин19. Я испытывал отчаянное желание занять себя хоть чем-то; найти противоядие от одиночества моих дней и ночей. Я решил, что любое движение скрасит мое уединенное существование. Но праздношатание расширяло пустоту внутри. Не скажу, что я был несчастлив в Париже. Я был несчастлив в себе. И никак не мог понять почему. Я не скучал по дому. Не тосковал по американским привычкам. Я наслаждался новизной всего, что лежало передо мной. Но грусть, как упрямое пятно, никак не желала смываться.
В соседнем гостиничном номере вечно ссорилась пара. Ночной портье – Омар, бербер с юга Марокко, – сказал мне, что они сербы. Беженцы. И не перестают злиться друг на друга.
– Их мир рухнет, если они проявят доброту и взаимоуважение. Вот они и поддерживают свой гнев.
Стук пишущей машинки был еще одной константой ночной жизни гостиницы. Я не возражал против него. Он действовал на меня как метроном: этот тук-тук-тук убаюкивал меня, погружая в преисподнюю сна. Однажды вечером, на второй неделе моего пребывания в Париже, поздно вернувшись с сеанса в джаз-клубе «Сансайд», я увидел, что дверь соседской комнаты приоткрыта. Свет внутри был затянут дымом.
– Можешь войти, – из дымной пелены вырвался голос. Голос американца.
Я толкнул дверь. И очутился в комнате, точно такой же, как моя, только обжитой постояльцем. В гнутом деревянном кресле сидел парень лет под тридцать. Светлые волосы до плеч, круглые очки в металлической оправе, сигарета в зубах, туманная улыбка.
– Ты мой сосед? – спросил он. – Мне лучше говорить на плохом французском?
– Английский сойдет.
– Не спишь из-за моей машинки?
– Я не сплю в пальто.
– Значит, ты увидел, что моя дверь открыта… и просто решил поздороваться?
– Я могу уйти.
– Можешь и присесть.
Так я познакомился с Полом Моустом.
– Да, я пишу. И нет, пока еще не опубликовал ни слова. И не собираюсь рассказывать тебе, о чем этот роман, что говорит о большой сдержанности с моей стороны. Да, я из Нью-Йорка. Да, моего трастового фонда достаточно, чтобы не разориться.
Я узнал, что он бежал от своего авторитарного отца. Инвестиционного банкира. Типичного представителя привилегированной Лиги плюща. Со связями. С домом на Парк-авеню. С высоким положением в епископальной церкви.
– Вся траектория подготовительной школы, Лиги плюща. Я поступил в Гарвард. Меня выгнали из Гарварда. Отсутствие интереса к работе. Два года в торговом флоте. Ха, когда-то это сработало для Юджина О’Нила. Я вернулся в Гарвард. Папочкины связи. Пробился. Целый год обучал трудных подростков в Буркина-Фасо. Прошел через гонорею, сифилис, трихомониаз. Пятнадцать месяцев назад обменял Уагадугу на Париж. Нашел этот отель. Заключил сделку. Теперь вот сижу, печатаю дни и ночи напролет.
– Твой отец не пытался силой вернуть тебя домой, на Уолл-стрит?
– Папочка поставил на мне крест. Еще в Буркина-Фасо, в момент невменяемости, вызванной лихорадкой денге, я написал в журнал выпускников Гарварда, в рубрику «Расскажи о себе». И что же я им сообщил? Пол Моуст, выпуск 1974 года, живет в Центральной Африке с хронической гонореей. Ну, я подумал, что это остроумно.
– Это попало в печать?
– Вряд ли. Но у стен, увитых плющом, имеются уши. Папа написал мне в Париж, что отныне обо мне позаботится «Американ Экспресс», что теперь я сам по себе, без его щедрости и опеки, в большом плохом мире. Конечно, он знал, что не сможет помешать мне пользоваться трастом, учрежденным его отцом для пятерых внуков. Мою долю процентов по основному вкладу стали выплачивать мне в день моего двадцатипятилетия… то есть семь месяцев назад. Как раз в то время, когда меня вышвырнул отец. Теперь у меня приличное ежемесячное пособие в восемьсот долларов. Учитывая, что я договорился с управляющим этим убогим заведением о цене двадцать пять франков за ночь – поскольку теперь постоянно проживаю здесь, – у меня появился свой маленький закуток в Париже меньше чем за семьдесят долларов в месяц. И мне даже меняют постельное белье два раза в неделю.
Затем он спросил меня, где я вырос. Я рассказал. И вот что услышал в ответ:
– Какое унылое местечко, чтобы называть его домом.
Я кивнул на бутылку eau de vie20. Vielle Prune. Он налил мне стакан и угостил сигаретой «Кэмел». Спросил, в каком колледже я учился. Пришлось удовлетворить его любопытство.
– О боже, так ты Мистер Университет штата? А теперь что? У тебя бюджетный гранд-тур по Европе, откуда вернешься, чтобы присоединиться к отцовской практике аграрного страхования?
– В сентябре я начинаю учебу в юридической школе Гарварда.
Это привлекло его внимание.
– Серьезно?
– Вполне.
– Chapeaux!21 Коллега по Гарварду.
И тот, кто попал туда не стараниями папочки.
Но этот подтекст остался невысказанным.
Он сменил тему, больше не задавая вопросов о моей жизни.
Но позже, после двух сигарет и трех стаканов eau de vie, он поделился наблюдением:
– Я знаю, почему ты оказался сегодня вечером у моей двери. Агония Парижа. Город жесток ко всем, кто сам по себе. Ты видишь кругом парочки – и это высвечивает твой статус потерянного маленького мальчика. И тот факт, что ты возвращаешься в пустую постель в дешевом отеле.
– Значит, нас двое.
– О, у меня кое-кто есть. Только не сегодня. А вот ты один в полете. И не можешь найти пару.
Мне хотелось возразить. Хотелось опровергнуть. Хотелось прихлопнуть его жестокость. Но я знал, что это поставит меня в положение обороняющегося. Чего он и добивался. Я видел, как он расставляет ловушку. Вот почему я предпочел такой ответ:
– Виновен по всем пунктам.
– Вау, вау, какой честный парень.
– Может, подскажешь, что сделать, чтобы не чувствовать себя здесь таким одиноким?
– Полагаю, ты почти не говоришь по-французски?
– Мой французский очень примитивный. Далек от разговорного.
– Я мог бы пригласить тебя на вечеринку завтра. Что-то вроде презентации книги. Подруги Сабины.
– Кто такая Сабина?
– Женщина, которая должна быть здесь сегодня. Не проси меня объяснять.
– С чего бы мне просить об этом?
– Зубастый фермерский мальчик.
– Я вырос не на ферме.
В ответ он ухмыльнулся.
– Если я приглашу тебя, то должен сразу предупредить, что за руку водить не буду. И знакомить ни с кем не собираюсь.
– Тогда зачем приглашать меня?
– Ты же сказал, что тебе одиноко. Назови это актом милосердия.
Он потянулся к блокноту и нацарапал адрес.
– Завтра в семь вечера.
Он окинул взглядом мои расклешенные серые джинсы, коричневый свитер с круглым вырезом, голубую рубашку на пуговицах.
– Это Париж. Тебе лучше переодеться в черное.
***
Я вернулся в армейский магазин. Меня обслуживал тот же человек с лицом боксера. Я объяснил, что мне нужно, упомянув о том, что мой бюджет ограничен. Он оглядел меня, прикидывая мой размер.
– Доходяга, – изрек он и ушел рыться на полках. Он откопал черную шерстяную водолазку за тридцать пять франков и черные шерстяные брюки за сорок пять. Ему пришлось стряхнуть с них пыль, прежде чем я их примерил. Обе вещи идеально сели на меня. – У меня есть черные зимние сапоги от La Legion Etrangere. Мягкая кожа. Уже разношенные. Теплые, но нетяжелые и с добротной подошвой. То что надо для Парижа. Шестьдесят франков.
Я примерил. Сапоги пришлись впору.
– Бери все за сто десять франков, – предложил продавец. – И теперь ты – une symphonie en noir22.
***
– У тебя такой вид, будто ты только что сошел с корабля «Ист-Виллидж».
Так Пол Моуст приветствовал меня у дверей книжного магазина.
– Ты же велел мне сменить стиль.
– И тебе это удалось, морячок.
Книжный магазин назывался La Hune23. Моуст стоял у входа, покуривая «Кэмел». С ним была женщина. Худая, как рельс, копна кудряшек, байкерская куртка, черный шелковый шарф.
– Познакомься с Сабиной, – сказал он.
Я протянул руку. Сабину явно позабавил этот жест. Она наклонилась и поцеловала меня в обе щеки.
– Мой приятель, новичок здесь, понятия не имеет о местном протоколе, – объяснил Моуст.
Ответ Сабины прозвучал как словесная пощечина:
– Tu sais que je refuse de parler en anglais24.
Моуст разразился потоком быстрой французской речи с вкраплениями агрессивных ноток. Сабина надулась и рявкнула в ответ:
– T’es un con.
Она только что назвала его кретином. Поделом.
– Видишь, что ты натворил? – расплываясь в улыбке, сказал мне Моуст. И указал на дверь. – Увидимся в баре.
Книжный магазин занимал небольшое помещение. Повсюду заполненные книжные стеллажи. Книги громоздились высокими стопками на всех поверхностях. Меня окружала плотная толпа. Я отыскал бар и потянулся за красным вином. Потом попятился к книжной полке, над которой висела табличка: «Philo»25. Я опустил глаза, и мой взгляд заскользил по корешкам томов: де Бовуар, де Местр, де Морган, Делёз, Демокрит, Деррида, Декарт, Дидро, Дворкин…
– Étes-vous obsêdê par les philosophes dont le nom begin par un ‘D’?26
Голос тихий, вибрирующий, дразнящий. Я резко обернулся. И оказался лицом к лицу с женщиной. Облако рыжих кудрей. Темно-зеленые глаза, ясные, проницательные, умные. Лицо мягкое, веснушчатое, открытое. Платье черное, облегающее. Черные чулки. Черные сапоги. Сигарета в длинных пальцах, кутикулы слегка подгрызены, на левом безымянном пальце – золотая полоска кольца. Моя первая мысль: ранимая. Моя вторая мысль: красивая. Моя третья мысль: я сражен. Четвертая мысль: проклятое обручальное кольцо.
– Американец? – спросила она.
– Боюсь, что да.
– Не нужно стесняться этого.
Ее английский был безупречен.
– Меня смущает позорное знание французского. Откуда у вас такой хороший английский?
– Практика. Я прожила в Нью-Йорке два года. Следовало бы остаться. Но я этого не сделала.
– А теперь?
– Теперь я живу здесь.
– И чем занимаетесь?
Еще одна озорная улыбка.
– А тебе нравится допрашивать. Случайно, не адвокат по уголовным делам?
– Двигаюсь в ту сторону. Но дайте-ка угадаю? Вы – преподаватель.
– Почему тебе так хочется узнать, чем я занимаюсь?
– Это моя естественная потребность – задавать вопросы.
– Любопытство похвально. Я – переводчик.
– С английского на французский?
– А еще с немецкого на французский. И обратно.
– Так вы свободно владеете тремя языками?
– Четырьмя. Мой итальянский вполне приличный.
– Теперь я действительно чувствую себя деревенщиной.
– Не знаю такого слова: «деревенщина».
– Тот, кто от сохи. Неотесанный мужлан.
– И дай-ка угадаю. Изобретатель этого арго родом из Нью-Йорка.
– Без сомнения.
Она сунула руку в черную кожаную сумочку, висевшую у нее на плече, и достала маленькую черную записную книжку и серебряную авторучку.
– Как пишется «деревенщина»?
Я подсказал.
– Обожаю арго. Это истинный местный колорит всех языков.
– Приведите мне пример парижского арго.
– Grave de chez grave.
– Дурак на всю голову, верно?
– Я впечатлена. Круто для того, кто говорит, что не знает французского.
Я рассказал про свою ежедневную лексическую рутину.
– Какое усердие. Тогда ты определенно не grave de chez grave – в смысле, не болван.
– Иногда я чувствую себя болваном.
– Вообще… или только здесь, в Париже?
– Здесь. Сейчас. В этом книжном магазине. Среди всех этих рафинированных умников.
– И ты говоришь себе: «Я просто „деревенщина“…» Правильно я произнесла?.. Неотесанный мужлан?
– Вы быстро схватываете арго.
– Когда ты переводчик, слова для тебя – это все.
– Стало быть, вы тоже любопытны.
– Еще как.
Она слегка коснулась моей руки, позволив своим пальцам задержаться там на мгновение. Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.
– Изабель.
– Сэм. Забавно, что ты задала мне тот вопрос о философах. Я рассматривал эти имена на корешках книг – все на «Д» – и думал о том, как мало я знаю.
– Но признать, что у тебя есть пробелы в знаниях, что ты хочешь рискнуть, заглянув в интеллектуальные места, которых до сих пор избегал, – это же замечательно. Для меня любопытство – это все. Так что перестань называть себя деревенщиной. Ты же нашел дорогу сюда. Попал на мероприятие, столь абсурдно парижское. Тебе известно, что за книгу сегодня представляют? Кто автор?
– Я незваный гость.
– За это я восхищаюсь тобой еще больше. Взгляни вон на ту довольно миниатюрную женщину с дикими кудряшками. Это Жанна Рошферан. Philosophe. Normalienne27. Она станет Acadеmicienne28 еще до конца десятилетия.
Женщина и впрямь была крошечной. С виду за шестьдесят. Тощая донельзя. Кожаные брюки с леопардовым принтом. Топ из леопардовой кожи. Грива черных волос. Рядом с ней маячил парень лет двадцати восьми. Типичный французский байкер. Зеленые очки-авиаторы. На лице выражение скуки от заумных разговоров. Его рука покоилась на пятой точке спутницы.
– Не понимаю ни одного из этих терминов, – признался я.
– А зачем тебе их понимать? Они очень много значат в нашем, здешнем мире. Поживешь в Париже достаточно долго, выучишь язык – и все обретет смысл.
– Я здесь всего на несколько месяцев. А потом двинусь дальше.
– Тогда ты не узнаешь многого – что, возможно, и не является твоим намерением.
– Я понятия не имею, какова моя цель.
– «Цель». Такое американское слово, понятие.
– Разве это проблема?
Еще одно легкое прикосновение ее пальцев к моей руке.
– Это мило. Здесь никто и никогда не станет говорить о целях, задачах. Мы все больше теоретики. Предпочитаем мозговое словоблудие. Но все в жизни сводится к тому, чтобы позволить себе то, чего мы хотим. Или создать для себя ограничения, нормы.
– А ты свободный человек?
– И да и нет. И да, я позволяю себе некоторые вещи и не позволяю себе заходить туда, где можно было бы найти больше свободы. Обычные риски и компромиссы, присущие определенному виду столичной жизни.
– Я не столичный житель.
– Ты здесь. Это начало. – Она бросила взгляд на часы. – Время, время. У меня ужин…
Без всякой мысли или преднамеренности я взял ее за руку. Она закрыла глаза. Потом открыла. Ее пальцы расслабились. Она отступила назад.
– Приятно было познакомиться, Сэм.
– Мне тоже, Изабель.
Молчание. Она первой нарушила паузу:
– Так спроси у меня номер телефона.
– Могу я узнать твой номер телефона?
Она встретилась со мной взглядом.
– Ты можешь.
Ее пальцы быстро скользнули в сумочку и вынырнули с маленькой визитной карточкой.